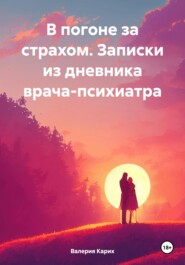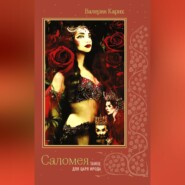По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жена фабриканта. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Ишь как… оставила. Эх, мама, – подумал он с умилением. Запоздавшая благодарность проснулась и теплой волной залила ему сердце.
На столе аккуратной стопочкой лежали исписанные листы со стихами. Он взял в руки листок, прочитал. В душе ничего не дрогнуло. Подумал, сгреб остальные бумаги вместе с синей детской тетрадью и пошел с этим ворохом в гостиную. Там положил бумаги на пол возле печи. Разжег огонь и стал бросать листы в огонь, один за другим. Равнодушно глядел, как съеживаются и чернеют, превращаясь в пепел, его стихи. Заветную синюю тетрадь с самыми первыми детскими и подростковыми стихами, которая казалась ему бесценным сокровищем, ибо в ней хранилась его оголенная душа, он задумчиво подержал в руке. А потом с каким-то бесшабашным азартом закинул в огонь.
Все стало ненужным, казалось по-детски глупым и трогательным. Да и был ли смысл хранить это все? Не жаль было давнего счастливого прошлого, которое уже не вернешь. Он сам от всего отказался. Пришел черед держать ответ перед матерью, собой и Богом. Но все равно надо думать о будущем, надо было решить, как жить с тяжелым грузом преступления. Ждать, когда его найдут, как преступника и соучастника преступления вместе с Массари и его шайкой или же решиться и самому пойти в участок, признавшись во всем… А потом? Потом каторга, позор на честное имя семьи, матери, братьев…Те его за этот позор никогда не простят.
Он был рад тому, что матери нет дома. Можно свыкнуться, осмотреться. Нужно время, чтобы подготовиться к разговору с родными: матерью, старшим братом.
Дождавшись, когда догорит последний листок, он загасил огонь и закрыл заслонку.
Выйдя во двор и обходя все хозяйственные постройки, он по-хозяйски осмотрел их, проверяя, что необходимо подправить в полках или навесах, как постелена на служебных строениях крыша, нет ли дыр в свинарнике или хлеву, не нужно ли их заделать.
После чая он снова пришел к птичнику и там тоже долго сидел, мечтая, как заживет, и поглядывая, как вольготно разгуливают по песку за вольером материнские хохлушки, пеструшки и горделивый красавец петух Карлуша, любимец матери, важно расхаживающий по двору среди кур и не сводящий с них глаз. Кудахтали куры, петух наклонял голову с алым гребешком, зорко следил за подопечными, взмахивал крупными крыльями, как будто собираясь взлететь. Утки лениво копошились возле корыта с водой, установленного посредине загона, или же сонно дремали в теньке под раскидистыми ветками яблони.
Петр бродил по двору, таская с собой в своей холщовой котомке, переброшенной через плечо, холодный квас в глиняной бутылке. Припадал, когда накатывала тошнота или жажда к фляге. Опорожнив, спешил в холодное темное подгребье и наливал очередную порцию напитка из высокой пузатой темно-зеленой бутыли с широким горлом.
После обеда он мирно дремал, греясь на солнышке возле сарая. В четыре часа его разбудил Архип, позвавший отогнать коров снова на пастбище. Он пошел. Вернувшись, растопил баню, помылся и после ужина отправился спать.
17
На московских улицах воцарилась глухая сонная тишина: не было слышно ни единого звука, ни скрипа деревьев, ни ветра, ни дежурного тявканья дворовой собаки.
Петр битый час ворочался на постели, не в силах заснуть. Пребывание в парной не пошло ему на пользу. Ноги и руки ломило, как при сильной инфлюэнции, в пересохшем рту стойко держался металлический противный привкус.
Алкогольный червяк ожил и требовал положенную дозу. В затылке и висках Петр ощущал давящую боль. Он намеренно не закрыл окно ставнями. И теперь к нему в комнату настырно и страшно заглядывала полная белая луна.
Он отвернулся от нее на левый бок и сразу почувствовал, как левую половину груди опоясала острая боль. Покрывшись испариной, он почему-то решил, что это пришел его смертный час и испытал почти животный страх. Подождал и осторожно перевернулся на спину. Так и лежал, боясь шевельнуть ногой или рукой.
«Смерть за мной пришла, глядит», – тоскливо думал он, чувствуя, как холодеют от страха ступни ног, торчащие из-под одеяла. Он отвернулся от страшной луны. Тихонько всхлипнул, остро чувствуя одиночество, свою ненужность и жалкость.
«Хлебнуть бы водички, а еще лучше бы полштофа найти. Тогда и сон бы сморил. Уснуть, а завтра как огурец»! – он перевернулся и потянулся к графину с водой на тумбе.
Опять грудь опоясала жгучая боль, и он упал навзничь.
«Архип утром увидит, как я лежу, мертвый в бесстыжем виде с задранной до подбородка исподней рубахой…» – представив себя в таком жалком виде, он содрогнулся. Мучаясь от запоев, он раньше звал смерть освободить его от страданий. А теперь, когда она пришла по его зову, он отказывается помирать, потому что, оказавшись дома, снова желает жить.
Так он и лежал в темноте, больной и беззащитный, не в силах пошевелить рукой, на скомканных и липких от пота простынях, взмокший и распластанный, как на плахе, в ожидании завершающего разящего удара.
Когда боль отпустила, он попробовал повернуться на бок, но она снова безжалостно проколола его грудь, будто шилом. Испугавшись, он замер и всмотрелся в черный угол за шкаф. Там стояла смерть в черной одежде. Он силился разглядеть ее лицо и не мог.
– Уйди. Я хочу жить, – прошептал Петр.
Но смерть не пошевелилась. Он стал думать, как будет мертвым лежать в гробу. И эта нарисованная воображением картина показалось ему нелепой бессмыслицей. Только что жил, дышал, ходил, разговаривал – и вдруг его нет? А что там, за страшной чертой? Небытие и вечный сон? И когда он вдумывался, вглядывался в темную пустоту, вся душа его восставала против такой несуразицы. Душа, но не отравленное алкоголем тело.
Шепча пересохшими губами одну за другой молитвы, он глядел на луну и мысленно клялся Всевышнему, что если тот даст еще пожить, он бросит пить. «Зачем же я жил? – с тоской вопрошал он себя. – Не родил детей, зато написал полсотни глупых и пошлых стишков, из которых ни одно не издали. Я жалкий воришка, обокравший родную мать. И я заслужил смерти, потому что именно такого конца я и достоин, бездарно промотав то, что имел… Я вор и бездарность. И эта боль – расплата за мое высокомерие и гордыню. Жил гнусно и гнусно помру. И пускай! Значит, так судит Бог… И если это конец – то пусть он придет».
Сердечные приступы чередовались один за другим до самого утра. И лишь когда через щель в закрытых ставнях просочилась полоска серого света, боль отпустила его.
Чувствуя слабость во всех членах, не отходя от постели, он сходил в туалет в ночной горшок. Задвинул его ногой под кровать, расплескав мочу на полу. И поплелся в комнату матери. Опустившись там на колени перед иконостасом, с благоговейным страхом вглядывался Петр Ухтомцев в лики Богородицы и младенца на Ее руках:
«Помилуй мя, – шептали с мольбой его потрескавшиеся сухие губы, червяк внутри корчился. Петр исступленно теребил худой рукой ворот исподней рубахи.
Стукнувшись костлявым лбом о дощатый пол, всхлипнул. В душе царила смертная тоска. Сердце бухнуло, ухнуло. В глазах потемнело, бешено завертелись стены, мебель… В голове что-то лопнуло, рассыпалось на тысячи разноцветных пронзительных осколков, и он провалился в кровавую глухую темноту.
18
Архип обнаружил рано утром молодого хозяина лежащим на полу без сознания. Подхватив под мышки, волоком дотащил его до кровати и кое-как уложил.
Очнулся Петр от всхлипываний и причитаний сморкающейся в засаленный передник Лукьяновны. Та сидела на табурете и жалостливо глядела на него, подперев щеку рукой. Глаза ее были мокрыми.
– Чего же вы плачете, Степанида Лукьяновна? – спросил ее Петр.
– Да как же мне не плакать, голубчик мой! Петр Кузьмич, родненький, как же вы нас всех напугали. Что же это такое, как же… – отозвалась та и по-матерински заботливо поправила в ногах одеяло.
– Покушали бы вы, батюшка наш! Может, что-то хотите? А то ведь отощали совсем. Даже матушка ваша не узнает, как увидит. Что вам подать, Петр Кузьмич? – деловито спросила она, приподнимаясь, и уже готовая бежать по первому слову больного на кухню.
– Воды принеси попить. Больше ничего не надо, – попросил Петр и сбросил со лба на пол мокрую тряпку.
Лукьяновна наклонилась, молча подняла ее и, сокрушенно покачивая головой, вышла. Быстро вернулась и поставила возле кровати стул, на него графин с водой. Налила в кружку и бережно подала. Напившись, Петр опустил худые длинные ноги на пол и задумался.
– Спасибо, Степанида Лукьяновна. Вы идите отдыхать, мне уже лучше, – сказал он.
Петр подошёл к заветному иконостасу. Опустился на колени, начал молиться. А когда закончил, ощутил в душе победное торжество над своей слабостью. «Я жив, жив! Спасибо, Господи и Пресвятая Божья матерь», – ликуя, думал он.
Желание бросить пить созревало в нем с прошлой зимы. Но только в это августовское утро окончательно утвердилось Ничто не могло теперь помешать исполнить его. Он убедил себя, что стоит ему только броситься матери в ноги и вымолить прощение, объяснив воровство шантажом и угрозой жизни, как она простит, и жизнь снова наладится. И эта надежда на скорые изменения, состояние подъема, появившаяся решительность и целеустремленность так ему понравились, что он снова и снова с облечением крестился на иконы, шепча слова благодарности. «Я другой, мне по плечу это сделать. Я начну жить заново, я сильный, преобразился. Я убил в себе червя». И от этой блаженной мысли впервые за месяцы пьяного угара в нем как будто воссияла тихая светлая радость, гордость собой, надежда на помощь Бога и будущую праведную жизнь. Вечерело, после самоварных посиделок в обществе Лукьяновны он снова пошел бродить по двору. Все приготовлялись ко сну: люди и живность. Напоенная и накормленная скотина стояла в хлевах и свинарнике, калитки в птичники заперты. Спавшие в низких сарайчиках куры с утками, гусями и индюшками тоже досматривали десятый птичий сон. Из круглого темного зева курятника раздалось хлопанье крыльев петуха, вскрик, в ответ квохтанье. И все снова замолкло.
Где-то на другом конце улицы послышалась игра на гармошке, звучный мужской голос вытягивал протяжную песню, которая то ширилась и разрасталась, подхваченная женскими стройным голосами, то взлетала вверх, в сумеречное догорающее поднебесье. Со стороны заставы, где поле и лес, тянуло ночной прохладой и сыростью.
Архип стоял у сарая и точил косу. У его ног лежал Полкан. Вскочил, как только завидел хозяина, подбежал и завилял хвостом. За воротами послышался оживленный разговор. Уже где-то близко с их домом раздвинулись меха гармони, кто-то лихо и весело заиграл, но быстро прервал мелодию.
– Не слышали, что старуха Старикова учудила? – спросил у него Архип.
– Нет. А что?
– Она ходила в лес за грибами. Потом встала их у дороги продавать и сцепилась с Анной Осиповой.
– Как сцепилась? Обе старушки! – изумился Петр.
Крутов усмехнулся в усы.
– Так я о том и говорю. Лукьяновна рассказала. Встали обе они у дороги: у Осиповой грибы люди берут и берут, а у Стариковой точно такие же – нет. Ну Стариковой, видно, обидно стало, она подошла к Анне Сидоровне, да и пнула ногой ее корзину. Грибы все на дорогу и рассыпались. Во как… Бывает! Но Осипова бабка умная, не стала с полоумной связываться. Обругала, грибы собрала, да и ушла.
– И правильно сделала. Так они теперь, поди, надолго разругались, – предположил Петр.
– Понятное дело. Помирятся… А я у вас, Петр Кузьмич, на завтра хочу на целый день отпроситься.
– Какое-то дело?
– Да, я нанялся к помещику Бодягову, он у себя возле рощи лен собрался на следующую весну посеять. И пригласил мужиков березняк на том месте срубить. Вот я и хотел пойти, поработать. Мне ведь деньги нужно в деревню каждый месяц отсылать. Матушки вашей нет, и денег не стало.