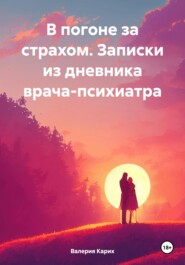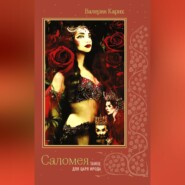По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жена фабриканта. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Заговорили о живописи, русских и зарубежных художниках. Массари охотно поддерживал разговор. К удивлению Петра он высокопарно и непонятно рассуждал о различии во взглядах и восприятии западных европейцев и русских «азиатов», как он назвал соотечественников, на искусство, и как это отражается на современных произведениях, высказывался он и о картинах, которые демонстрировал перед ними хозяин дома.
Петр же, пока они разговаривали, молчал. В беседу он не вступал, не желая выдавать свои чувства. В тот момент его мучили сомнения, нужно ли ему продолжать жить, как раньше, безвольно плывя по течению, или же укоротить гордыню и помириться с матерью, а главное с братом Иваном. Про старшего Федора он даже не думал, так как тот проживал далеко и не мог оказывать на его жизнь никакого влияния. Представив себе, как хорошо будет, если он помириться с братом Иваном, и тот станет воспринимать его как ровню, Петр оживился и даже высказался об одном из пейзажей, мол, картина мрачноватая, а было бы хорошо, если бы нанести на холст еще белой краски.
Однако было еще одно обстоятельство, которое мешало ему быть искренним и думать о картинах Стольберга. Дело в том, что Петр, будучи сам, как он считал, творческим человеком, ревностно относился к чужому творчеству и совсем не терпел рядом с собой более успешных художников, писателей, журналистов, а особенно поэтов… И если в каком-то журнале он видел часто мелькавшую фамилию какого-нибудь автора, которого он считал весьма посредственным в сравнении с собой, то обычно с кислым и скептическим выражением лица говорил матери, что дескать напечатали этого автора N, только потому что тот или дал взятку, или же сделал подарок издателю, или имеет связи, приходясь тому кумом, сватом или братом, но уж никак не талантом.
Они вышли от Стольберга уже под вечер и встали на обочине в ожидании, когда мимо проедет извозчик. На улице в этот час было совсем мало прохожих.
И вдруг над их головами в теплом и пыльном воздухе величественно поплыл колокольный перезвон. Это на московских звонницах гулко и весело зазвенели колокола, приглашая на вечернюю службу. Колокола торжественно гудели и гудели, звуча в унисон, и перекликаясь на все лады. Глубокие чистые звуки отражаясь от строений, создавали в воздушном пространстве неповторимый и мелодичный музыкальный ряд. Можно было заслушаться этим бесконечно родным и созвучным всякой русской душе перезвоном.
Наверху улицы появился извозчик. Массари помахал рукой. В этот момент мимо них по тротуару проходили две девушки. Когда они с ними поравнялись, Петр заметил, какое у одной было красивое и строгое лицо: она улыбалась и кивала, внимательно слушая, что говорит подруга. Как в тумане промелькнули перед Петром ее выразительные удивительные глаза, обдало нежным запахом духов. Замерев, Петр посмотрел ей вслед, как будто стараясь обнять взглядом всю ее изящную стройную фигуру.
– А ты чего замер-то? Смотри, не умри… Если хочешь, давай сядем на извозчика и догоним, – отвлек его Массари.
– Нет. Это ни к чему. В другой раз я бы, пожалуй, поехал. А сейчас нет, – помотал головой Петр.
– Хм, а почему не сейчас? Дело сделано, деньги в кармане. Можно развлечься…
– Поедем. Ни к чему это…
Массари хмыкнул и первый полез в остановившуюся возле них коляску.
– Завтра накуплю много рыбы и отнесу Стольбергу. Не знаешь, куда лучше поехать? – расспрашивал Петр дорогой.
– Откуда ж мне знать. Это ведь, не я беру рыбу у астраханских купцов, – с ухмылкой отвечал Массари, намекая на придуманную ими легенду. Он отвернулся и со скучающим видом поглядел в окно.
– Купи ему черной икры и побольше. Этому он точно обрадуется. Тем более, пошел нам навстречу и выкупил все векселя. Да и к тебе отнесся по-отечески, – ухмыльнулся Массари и добавил с иронией: – Похоже, твой запойный вид побудил в этом сердобольном чудаке желание делать добро.
– Смею вам заметить, что с вашей стороны непорядочно за спиной так уничижительно отзываться о хорошем человеке, – бросил Петр, чувствуя себя униженным от брошенного в лицо издевательского намека на его болезненную зависимость.
– Почему, поясни, – спокойно прищурился Массари.
– Вы, Дмитрий Николаевич, привыкли судить о людях в унизительной и высокомерной манере. А господин Стольберг – порядочный и честный человек. По нему сразу видно, что имеет совесть. Это не он, а мы заявились в его дом и насочиняли с три короба. При нем вы себе не позволяли так ерничать… Вы относитесь к людям, как вам выгодно и в зависимости от того, могут ли они принести вам пользу, – в сердцах заключил он и замолчал. Ему не сразу удалось подобрать нужные слова, и он почувствовал, что окончательно запутался. Ему всегда было проще изъяснять свои мысли пером на бумаге, много раз поправляя и переписывая написанные фразы и предложения, достигая отточености слога. А когда приходилось пускаться в решительные доказательства, язык частенько отказывался ему повиноваться и закостеневал.
– Оставьте для других эти высокопарные художественные сентенции. В нашем случае они выглядят смешно. Вы, впрочем, тоже, – оскалился в ухмылке Массари.
– Когда вы хотите чего-то добиться, вам не смешно. А когда уже и использовали, как тряпку, то можно и выбросить. Так по-вашему получается? – возмутился Петр. Он был рад возможности выплеснуться своему накопившемуся раздражению и высказаться.
– Думайте, что хотите, мне как-то это все равно. И, кстати, зря за него заступаетесь и напрасно выслуживаетесь перед этим субъектом… Уж он-то точно не оценит ваших стараний. У этого господина, смею напомнить, денег куры не клюют, в отличии от нас с вами. И чего ж тут плохого, что он с нами ими немножко поделился? Да, мы между прочим, просто прибегли при вашем, так сказать участии к небольшой уловке, чтобы этого добиться, – заключил Массари и весело подмигнул. Его начинала забавлять горячность Ухтомцева.
– Противно… Мы поступили подло, обманули хорошего человека, художника, – угрюмо пробормотал Петр спустя некоторое время.
– Да, да… мы такие дурные люди. Да и какой он художник? Обыкновенная посредственность, возомнившая себя гением. А как перед нами распинался. Наверно, хотел загнать нам свои картины втридорога. Но мы люди умные, не купились. Хм, постойте-ка! С чего это вы взяли, что он такой уж хороший? У него это что, на лбу написано? – с издёвкой поинтересовался Массари.
Петр сердито молчал.
– Поставить ногу в дерьмо и не испачкаться… Ну так, братец мой, не бывает. Любишь кататься, люби и сани возить, – заключил Массари и покровительственно похлопал Ухтомцева по плечу.
15
На следующий день рано утром Петр поехал в Гостиный двор и купил целый мешок рыбы: осетров, омуля, вяленой корюшки и черной икры. Отвез к дому Стольберга и передал дворецкому, отворившему дверь.
В десятых числах августа, во время отсутствия Жардецкого, он наконец-то решился вернуться домой и сбежал с квартиры Жардецкого. Вечером того же дня, задворками и чужими садами, огородами уже в темноте пробрался к родительскому дому. Пролез в как будто специально оставленную для него дыру в заборе и прошмыгнул к небольшому флигелю позади дома. Рядом с флигелем был дровяной навес. Там всегда стояла широкая лавка, на которой Петр и намеревался устроиться на ночь. Их дворовый пес Полкан, почуяв чужого, как призрак бесшумно и неожиданно возник перед ним из-за кустов и грозно зарычал. На ночь собаку отвязывали, чтобы стерег двор и дом.
Но узнав хозяина, Полкан заливисто обрадовано залаял.
– Ну будет тебе, будет. Ах ты, как распрыгался-то. Рад? Да? И я тоже рад, собака ты моя глупая, – ласково приговаривал Петр, отворачиваясь от пса, норовившего лизнуть хозяина в нос.
Петр присел на корточки и стал ласкать перевернувшегося на спину и задравшего лапы кверху Полкана. Пока он гладил мягкое теплое брюхо и чесал за ушами, притихший довольный пес блаженно жмурился, раскрыв пасть.
Загремел отворяемый засов. Полкан напрягся и повернул на шум морду. Петр вскочил и метнулся в густо растущие кусты сирени. На пороге флигеля выросла долговязая фигура Архипа, державшего горящий фонарь в левой руке. Он был бос, в распущенной исподней рубахе.
– Кто здесь? – настороженно спросил он в темноту.
– Я, – глухо вымолвил Петр Ухтомцев, выходя из-за кустов.
Казалось, Крутов видел его только вчера и ничуть не удивился его появлению. Прикрыв фонарь рукой, он спокойно и добродушно объяснил:
– А я на вас сразу подумал. Мы только вчера с бабами о вас говорили. А тут раз, и вы появились! Значит, будете жить богато. А вы, Петр Кузьмич, к нам теперь как? Насовсем или… – он не договорил.
– Насовсем.
– Ну, и правильно. Чего у чужих-то жить, когда свой дом простаивает, – согласно кивнул головой Крутов.
– Матушка дома?
– Нет. Как уехали на троицу в Архангельск, так до сих пор и не вернулись. Меня вот тоже с собой звали, да я не поехал. За домом-то надо кому-то присматривать. На баб нельзя положиться, – рассказывал Архип, светя впереди себя фонарем и уступая Петру дорогу к дому (к флигелю, куда?). Войдя, он достал из берестяного короба мягкие чувяки и подал их хозяину.
Петр снял сапоги, переобулся. Зачерпнул кружкой воды из ведра, припал с жадностью усталого путника, долго скитавшегося по раскаленной пустыне. В горле у него прояснело и посвежело, а грызущий внутренности червяк ненадолго притих.
Пока Крутов на скорую руку собирал ужин, он уселся за стол и осматривал родную обстановку. В горнице было тепло и привычно покойно.
– Я вам сейчас щец подогрею, – заботливо проговорил Архип. Он пошевелил кочергой разгорающиеся головешки, загремел ухватом, ставя в печь чугунок со щами.
Темнота за окном нависала, как тяжелая ночная портьера. В углу в круглом дубовом бочонке тянулся к окну огромный фикус.
– Ужинать буду подавать, готово, – проговорил Архип.
– Подавай, – кивнул Петр. Он сидел за столом и наблюдал, как Крутов передвигается по горнице, здоровой рукой вынимает из буфетных ящиков и расставляет перед ним столовые приборы, хлеб и кувшин с топленым молоком. Затем он ловким движением вытащил ухватом из печи горячий чугунок и поставил на стол. Сам уселся напротив, подождал и спросил:
– Может, вам еще кваску холодненького из погреба принести?
– Принеси. – Петр торопливо и с аппетитом хлебал наваристые жирные щи.
– Вы пока ешьте, а я схожу разбужу Степаниду, пускай, вам в доме постелет, – поднимаясь из-за стола, говорил Архип.
– Не нужно. Если вы не против, я переночую у вас?
– Как я могу быть против? – удивился Архип. – Вы, Петр Кузьмич, тогда на мою постель ложитесь, а я в сарай пойду спать. У меня там для таких случаев тюфячок припасен. Ночи сейчас еще теплые, чай, не замерзну.