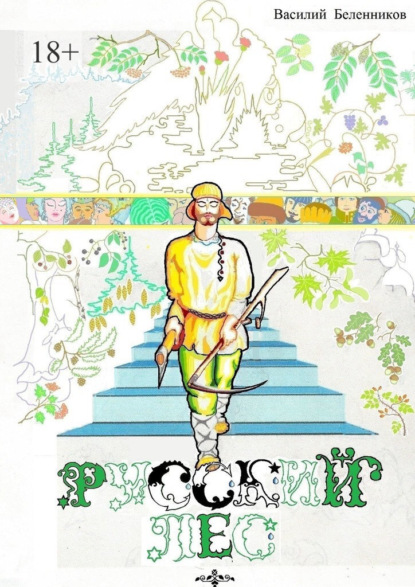По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Русский лес
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Центральный стол – голова, повёрнутая в полёте почему-то назад.
От его торцов, переломом под прямым углом, как в стремительном взмахе, – два крыла гостевых.
Тулово птицы отсутствовало, но зато был хвост, сзади по центру – как раз стол с богомазом… оторванный как бы. А может это и не хвост был, а то, что… Ну, не важно.
Притом этот последний демонстративно поднят был на плахи, для всеобщего обозрения. Лапти с летуна сняли правильно (зачем летуну лапти?!), сняли и поставили подле. Сняли и всё остальное лишнее, что могло препятствовать полёту. Сняли всё это здешние доброхоты-догодники. В общем, в одних портках лежал. Произошло это не вдруг, не сразу, а после того как он пролежал уже довольно долго безрезультатно. Сложенные на груди руки придавали богомазу вид умиротворённый и даже упокоенный. А гробовая тишина создавала, на посторонний взгляд, впечатление трагического содержания. Стороннему человеку могло уже показаться, что это уже не весёлый пир горой, а – похороны!
Вот так он и лежал бездвижно и, казалось, невинно безмятежно. А все на него безмолвно глядели. И уже довольно долго по времени. Всеобщая, поначалу, оторопь и нервное оцепенение постепенно сменялись недоумением: «Да когда же, наконец!? Сколько, эдак-то, можно лежать?! Уж и руки сложил, – прорывалось робкое недоверие, – а всё – безтолку!»
Ситуация нервного напряжённого ожидания явно перезревала. Солнце, катясь под гору, спряталось за маковку церковки Святого Петра. Появился невнятный, ещё робкий, ропот: «Да когда же?!.». Старый князь знаком велел распорядителю стольничему подавать на столы. Весело, любопытно-сдержанно посмотрел на воеводу. Тот, тоже знаком, весело, успокоил: всё будет хорошо, будьте покойны! Уж он-то, точно, знал своё дело. Ситуация была, на его усмотрение, беспроигрышна: не полетит – будет ещё забавней! И не ошибся! С первыми, беззвучно, как снежные хлопья, запорхавшими около стола холопами с блюдами, появились пока робкие нервные смешки. Не выдержали самые голодные, а потому – нервные. Вслед за ними потянулись, спуская с облегчением пружину нервного напряжения, гости более сановитые.
Разрядка была обвальней чем оторопь при объявлении предстоящего чудо-полёта. В первый момент было ещё неясно: плакать?.. или – смеяться? Однако, хоть и хрипло-старческий, но раскатистый хохот старого князя, поддержанный более степенным смехом четы молодой, лавиной смели все сомнения! Смеялись все. Весело, дружно, сморкаясь, до слёз! Старый, вытирая слёзы, выспренне тянул длани свои, трясущиеся от смеха и старости, к воеводе, приглашая его в объятья. Они обнялись крест-накрест. Дело было сделано! Весёлое застолье началось изысканной забавою.
– Потешил, батюшка Иван Борисыч, позабавил старика!
– Я рад, светлый князь, угодить тебе. Но не спеши благодарить. Не торопись пока. Ведь не одного розыгрыша ради привёл я его сюда, да полдня перед тем ходил за ним, уговаривал. Погоди маленько, толи ещё будет…
– А что?.. Что ещё-то?.. Он что?.. И взаправду?!
– Погоди маленько, вот полежит так-то, отлежится, опомнится, дак ещё выдаст, пожалуй что. Мне ли тебя обманывать. Полбазара сегодня утром – свидетели, как он порхнул!..
– Да, ну… Ну, да?! Ну, дела… Да неужто?!
Благочинный, которому эта затея не понравилась сразу, но который и не смог сразу же, в лоб, не подобрав повода воспротивиться воеводиной затее, сидючи от князя («одесною») по правую руку и хорошо слыша этот диалог, давясь одновременно смехом, потайным негодованием, бараньей ногой и брагой крепкой, наконец-то окончательно перепугался и отчаянно-безоглядно возмущённо поперхнулся:
– Дак это что жа получится, коли так? Это тогда и не смешно, поди, вовсе. Это как жа?.. Это что ж получится… – запоздало вытирал он опрометчивые слёзы с глаз.
Подозвал ключника княжеского:
– Власий, поди-тко, – и князю: – Этого никак допустить невозможно, князь-батюшка! Всё хорошо в меру! Непорядок большой может случиться. Позволь, батюшка… Власий, посади-ка молодца этого, летуна этого, нетопыря келейного, кенаря этого сладкопевнаго в клетку – на цепь под замок! Да цепь-то принеси потяжеле, да замок поувесистее. А то, не ровён час, не приведи, Господи, воспарит над нами, аки ворон над ратию. Так и не до веселия станет. Спаси, Господи, и сохрани. От ужаса чародейства! Начнёт души православные смущать прелестью адскою. Непотребства творить…
И не спорьте со мной, и не пытайтесь!.. – отрицал он загодя неизбежные возмущённые протесты. – На за-мок!!! Да потеснее… За левую лодыжку. Ключ – мне!..
С первых чарок крепкого мёду захмелевшие гости настроены были куда более благодушно и не поняли поначалу, с какой стати лицедея этого, скомороха, этого весельчака-«комедиянта», вдруг берут в железа. За что?!
На что благочинный уверенно и авторитетно успокоил:
– Дак это так надо… Так спокойнее будет. Нам пировать. А ему – отдыхать. Сыграл борзо хорошо. Кабы нечистый не соблазнился, да не унёс сего забавника себе на забаву. Пускай посидит пока на цепи. Так и ему спокойней будет, и нам.
Надо сведать ещё, где он так навострился представлять, народ праведный смущать. На базаре, говорят, вытворял сегодня богомерзкое, кощунство непотребное. Потехе – час, а делу – время. Вот завтра, со свежей головы, и разберёмся, – холопу, под руку подвернувшемуся: – Ефим, отнеси щи мои скомороху.
Холоп подхватил огромную долблёную расписную чашу с наваристыми щами, с деревянною же ложкой-ковшиком, подтиснул под мышку поданную благочинным хлеба краюху, с поворотами, плавными уклонами, в качку перенёс к ногам богомазу. Шепнул:
– Ешь не робей! Пока щи… Место оставь под княжеские блюда!
Застолье гудело, пило-ело, горланило. Тосты и здравицы в честь старого князя и молодой четы неслись с разных сторон. От центрального стола, где и восседали тостуемые, растекаясь через крылья боковых, до самых крайних. От гостей сановитых до самых непритязательных, которых за центральным столом уж и не расслышать было. Заканчивая народом простым. Которому от княжеских щедрот, «с княжьего стола», с широкого княжьего двора, за ворота на улицу выкатили бочку мёду крепкого.
Благочинный, наконец-то поднасытившись, оценив ситуацию, воспользовавшись общей занятостью и неразберихой за столом, суетливым многолюдьем вокруг него, подступился наконец-то к летуну поближе. Укоризненно тыкая жирным, с кольцом-рубином, пальцем прямо в лоб «толоконный», возмущённо начал допытываться:
– Как же ты дерзнул, окаянный?! Как всклепал на себя такое?!
Подвыпившие, ошарашенные с самого начала застолья, с толку сбитые зрители немедленно окружили попа с летуном.
Богомаз, обескураженный трагическим для себя поворотом дела, которое, нечаянно для него, обернулось трагедийным сюжетом: «кошке – игрушки, мышке – слёзки», туго как-то, застопоренно, пытался соображать-отвечать. Заторможенно оправдывался:
– Не знаю… Говорено было…
Благочинный, грозно негодуя, наседал:
– Кем говорено? Когда говорено? Говори, смерд, толком!
Игр, подавленный произошедшим, растерянно, с детской непосредственностью косноязычно пытался объясниться.
– Не знаю. Старичок один сказал: «Будешь летать…».
Как так «летать»? – ещё более негодуя, уже угрожал батюшка. – «Летать»… С чего это вдруг?! Ни с того, ни с сего, вдруг – «летать»?.. Ты что, голубь сизокрылый?! Чтобы летать?! Говори рядом, смерд! Не егози!.. Что он тебе наказал?!
– «Если молодость будет глядеться в глаза старости», сказал…
– На-тко!.. Ни с того, ни с сего. Бряк – молодость! Бряк – старость! Неизвестно кто, вздумал и… сказал. Больше он тебе ничего не сказал?.. Так тебе любой дурак вздумает, да скажет… и что?.. А в колодезь сигануть он тебе не сказал? А с крыши оземь шмякнуться?.. Он тебе не сказал? Мудрёно что-то больно наскреб… Городишь огород, небылицы заплетаешь. Врёшь, поди, всё?!
– Нет, правда сущая. Вот как Бог свят! Старичок сказал: «…смотреть в глаза старости».
– Вот бестия. Уж не Николой ли Угодником старичка-то звали?.. – вдруг повеселел благочинный.
И уже обступившим присутствующим:
– Врёт, шельмец, конечно. Но как складно! Как по писанному шпарит!
Да ведаешь ли, прощелыга, что тебе за это будет?! – грозно подступался он опять к богомазу.
Баскак, татарин пьяной, решил взять узду разбирательства в свои руки, посоветовал, со знанием дела, подошедшему наконец Иван Андреичу:
– Воевод, велы-к ёйго на дыб поднат. Пушай он там нэмног «полэтыт». Пагладым, что патом пет будыт. А там и на кол, мылост просм. С кола нэбос не улытыщ…
От этой нежданно-негаданно обозначившейся перспективы богомазу совсем уж стало не по себе. Можно сказать, плохо стало. С лица его медленно сошло всё то живое, что ещё оставалось. Чело стало бледным, как стены палат белокаменных, глаза в разнобой покатились к небу, ноги обмякли и медленно-плавно стали опускать бренное тело бедолаги на кучу цепи у ног. А потом он, обок, кувырнулся и с неё.
Очухался Игр от ушата холодной воды.
Его тормошил воевода.
– Парень, парень! Ты что? Ты чт-о-о? Совсем?..Да ты, я смотрю, совсем скис.
Подхватил богомаза под мышки.
– Ну, что ты сомлел совсем. Говорено ж тебе было, «пальцем никому тронуть не дам!».
Требовательно, не глядя, протянул правую руку себе за спину. Куда перед тем бесцеремонно оттеснил не в меру ретивого попа: «Смотри, отец мой, ключ не потеряй!..». В неё, в руку, тотчас же вставили увесистый ковш крепкого мёду.