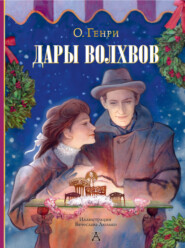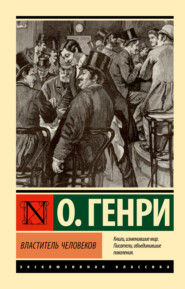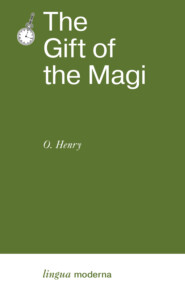По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Последний лист
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лист был всё ещё на своём месте. Джонси долго лежала, не спуская с него глаз. А затем окликнула Сю, которая разогревала для неё на газовом рожке куриный бульон.
– Я была нехорошая, Сюди, – сказала Джонси. – Что-то заставило последний лист остаться на месте, чтобы показать мне, как я была виновата; грешно желать смерти. Дай мне теперь немного бульону и молока с портвейном. Но нет! Прежде всего дай мне ручное зеркало, а потом положи мне за спину подушки; я буду сидеть и смотреть, как ты готовишь.
Через час она сказала:
– Сюди, я надеюсь когда-нибудь написать Неаполитанский залив.
Доктор зашёл днём, и Сю под каким-то предлогом вышла проводить его в коридор.
– Равные шансы, – сказал доктор, пожимая худенькую дрожащую ручку Сю. – При хорошем уходе вы победите. А теперь я должен навестить другого пациента здесь внизу. Его фамилия Берман. Он, кажется, что-то вроде художника. Тоже пневмония. Он слабый старик, а форма болезни тяжёлая. Для него нет надежды; но я его сегодня отправлю в больницу, чтоб ему было удобнее.
На следующий день доктор сказал Сю:
– Она вне опасности. Вы победили. Питание и уход – это теперь всё, что нужно.
Вечером Сю подошла к постели, сидя в которой Джонси с довольным видом вязала ярко-синий и ярко бесполезный шерстяной шарфик. Сю обняла её вместе с подушками.
– Мне надо что-то рассказать тебе, белая мышка, – сказала она. – Мистер Берман скончался сегодня в больнице от пневмонии. Он проболел всего два дня. Швейцар нашёл его в первый день утром в его комнате без памяти. Его башмаки и одежда промокли насквозь и были холодны, как лёд. Они не могут себе представить, куда он выходил в такую ужасную ночь. А потом они нашли фонарь, ещё зажжённый, лестницу, сдвинутую со своего места, разбросанные кисти и палитру, на которой были смешаны зелёная и жёлтая краски. Взгляни теперь в окно, дорогая, на последний лист винограда на стене. Тебя не удивляло, что он ни разу не дрогнул и не шевельнулся под порывами ветра? Дорогая моя, ведь это шедевр Бермана! Он нарисовал его в ту ночь, когда упал последний лист.
Багдадская птица
Без всякого сомнения, дух и гений калифа Гаруна аль-Рашида осенил маркграфа[7 - Маркгра?ф – в раннем Средневековье в Западной Европе должностное лицо в подчинении короля, наделённое широкими административными, военными и судебными полномочиями в марке.] Августа-Михаила фон Паульсена Квигга.
Ресторан Квигга находится на Четвёртой авеню – на улице, которую город как будто позабыл в своём росте. Четвёртая авеню, рождённая и воспитанная в Бауэри, смело устремляется на север, полная благих намерений.
Там, где она пересекает Четырнадцатую улицу, она с важностью величается одно короткое мгновение в блеске музеев и дешёвых театров. Она могла бы, начиная отсюда, стать равной своему высокорождённому брату бульвару, который тянется отсюда на запад, или своему шумному, многоязычному, широкогрудому кузену на востоке. Она проходит через Юнион-сквер, и здесь копыта ломовых лошадей топчут её в унисон, вызывая в памяти топот марширующей толпы. Но вот подступают молчаливые и грозные горы – здания, широкие, как крепости, высокие до облаков, закрывающие небо, дома, в которых тысячи рабов проводят целые дни, склонившись над своими конторками. В нижних этажах помещаются только маленькие фруктовые лавки, прачечные и лавки букинистов. А затем бедная Четвёртая авеню впадает в одиночество Средневековья. С каждой стороны её обступают лавки, посвящённые антикам[8 - Анти?к – художественный памятник древности или то, что носит отпечаток старины.].
Ночь. Люди в ржавых доспехах стоят в окнах и грозят кулаками в ржавых железных рукавицах торопливым автомобилям. Панцири и шлемы, мушкеты кромвелевских времён, нагрудники, кремнёвые ружья, мечи и кинжалы целой армии давно отошедших храбрецов таинственно блестят в бледном, нездешнем свете. Время от времени из ярко освещённого углового бара выходит гражданин, возбуждённый возлияниями, и робко ступает на древнюю улицу, ощетинившуюся окровавленным оружием воинственных мертвецов. Какая улица может жить в окаймлении этих смертных реликвий и попираемая этими призрачными пьянчужками, в упавших сердцах которых замерла уже последняя нота кабацкого «тра-ля-ля»?..
Четвёртая авеню не может. Даже после мишурного, но возбуждающего блеска Литл-Риальто, даже после оглушительных барабанов Юнион-сквер. Нечего тут проливать слёзы, леди и джентльмены: это только самоубийство улицы. С визгом и скрежетом Четвёртая авеню ныряет головою вниз в туннель у пересечения с Тридцать четвёртой – и больше уже никто её не видел…
Скромный ресторан Квигга стоял поблизости от этого печального зрелища гибнущей улицы. Он стоит там и сейчас, и, если вы хотите полюбоваться его обваливающимся краснокирпичным фасадом, его витриной, набитой апельсинами, томатами, кексами, спаржей в банках, его омаром из папье-маше и двумя живыми мальтийскими кошечками, спящими на пучке латука; если вы хотите посидеть за одним из его маленьких столиков, покрытым скатертью, на которой желтейшими из кофейных пятен обозначен путь грядущего нашествия на нас японцев, – посидеть, не спуская одного вашего глаза с вашего зонтика, а другой уперев в подложную бутылку, из которой вы потом накапаете себе поддельной сои, которой нас награждает проклятый шарлатан, выдающий себя за нашего милого старого господина и друга «индийского дворянина», – идите к Квиггу.
Титул свой Квигг получил через мать. Одна из её прабабок была маркграфиней Саксонской. Его отец был молодцом из тамманийской шайки. Квигг учёл раздвоение своей наследственности и понял, что никогда не сможет ни стать владетельным герцогом, ни получить должность по городскому самоуправлению. И он решил открыть ресторан. Это был человек мыслящий и начитанный. Дело давало ему возможность жить, хотя он и мало интересовался делами. Одна часть его предков одарила его натурой поэтической и романтической, другая завещала ему беспокойный дух, толкавший его на поиски приключений. Днём он был Квигг-ресторатор. Ночью он был маркграф, калиф, цыганский барон. И ночью он бродил по городу в чаянии странного, таинственного, необъяснимого, тёмного.
Однажды вечером, в девять часов, когда ресторан закрылся, Квигг выступил в свой ночной поход. Когда он наглухо застёгивал своё пальто, он являл с своей коротко подстриженной, тёмной с проседью бородой смесь чего-то иностранного, военного и артистического. Он взял курс на запад, по направлению к центральным и оживлённым артериям города. В кармане у него был целый ассортимент надписанных визитных карточек, без которых он никогда не выходил на улицу. Каждая из этих карточек представляла собою чек из его ресторана. Некоторые давали право на бесплатную тарелку супа или на кофе с бутербродом, другие давали предъявителю право на один, два, три и больше обедов, третьи – на то или другое отдельное блюдо из меню. Некоторые – их было немного – являлись талонами на пансион в течение целой недели.
Богатством и могуществом маркграф Квигг не обладал, но у него было сердце калифа[9 - Кали?ф – титул феодального верховного правителя мусульман, совмещавшего духовную и светскую власть в ряде стран Ближнего и Среднего Востока, а также лицо, носившее этот титул.]: быть может, некоторые золотые монеты, розданные в Багдаде на базаре, распространили среди несчастных меньше тепла и надежды, чем Квиггово бычачье рагу между рыбаками и одноглазыми коробейниками Манхэттена.
Продолжая свой путь в поисках романтического приключения, которое развлекло бы его, или бедствия, в котором он мог бы оказать помощь, Квигг увидел на углу Бродвея и пересекающего его бульвара толпу. Толпа быстро росла, люди галдели и дрались. Он поспешил подойти поближе и увидел в центре молодого человека, в высшей степени меланхолической наружности, спокойно и сосредоточенно достававшего из своего кармана серебряную мелочь и посыпавшего ею мостовую. Каждое движение руки щедрого молодого человека сопровождалось радостным рёвом толпы, сейчас же устремлявшейся на добычу. Уличное движение приостановилось. Полисмен в центре толпы, ежеминутно наклоняясь к земле, убеждал толпу разойтись.
Маркграф сразу понял, что его интерес к отклонениям человеческого сердца в сторону ненормального найдёт себе здесь пищу. Он быстро пробился к молодому человеку и взял его под руку.
– Идите сейчас же со мной, – сказал он тихим, но повелительным голосом, которого так боялись его лакеи.
– Испёкся, – сказал молодой человек, глядя на него ничего не выражающими глазами. – Попал в руки к дантисту, вырывающему зубы без боли. Ну, ведите меня куда надо. Некоторые кладут яйца, а некоторые не кладут. Когда курица?..
Всё ещё глубоко подавленный каким-то внутренним потрясением, но сговорчивый, молодой человек дал себя увести. Квигг привёл его в маленький сквер и усадил на скамейке.
Осенённый уголком плаща великого калифа, Квигг заговорил с мягкостью и осторожностью. Он пробовал узнать, какая беда стряслась с молодым человеком, расстроила его дух и толкнула его на столь легкомысленное и разорительное расточение его добра и имущества.
– Я изображал Монте-Кристо, правда? – спросил молодой человек.
– Вы швыряли на мостовую мелочь, – сказал калиф, – чтобы толпа ползала за ней на коленях.
– Вот именно. Сначала пьёшь пиво, сколько можешь влить в себя, а потом начинаешь кормить цыплят… Прокляты они будь – цыплята, куры, перья, вертела, яйца и всё, что к ним относится.
– Молодой человек, – сказал маркграф мягко, но с достоинством. – Я не говорю вам: будьте со мной откровенны, я только приглашаю вас к откровенности. Я знаю свет и знаю людей. Человек – предмет моего изучения, хотя я и не смотрю на него, подобно учёному, как на насекомое, или, подобно филантропу, – как на объект для приложения своих деяний. Между мною и человеком нет дымки теории и невежества. Я интересуюсь особыми и сложными неудачами, в которые ввергает моего брата, человека, жизнь в большом городе. Это изучение доставляет мне развлечение и радость. Вам, может быть, известна история славного и бессмертного правителя, калифа Гаруна аль-Рашида, чьи мудрые и благодетельные экскурсии в жизнь его народа в Багдаде дали ему счастливую возможность исцелить столько ран? Я смиренно шествую по его стопам. Я ищу романтику и приключения не в руинах замков и не в развалинах дворцов, а на улицах города. Величайшие чудеса магии, с моей точки зрения, развёртываются в человеческом сердце, вызываемые свирепыми и противоречивыми силами скученного в городе множества. В вашем странном сегодняшнем поведении мне чудится роман. Ваш поступок представляется мне чем-то более глубоким, чем безобразничанием обыкновенного мота. Я замечаю на вашем лице черты, свидетельствующие о снедающем вас горе и даже отчаянии. Повторяю: я приглашаю вас к откровенности. Я не лишён некоторой возможности облегчить или посоветовать. Хотите довериться мне?
– А вы здорово говорите! – воскликнул молодой человек, и туманная печаль в его глазах сменилась на мгновение блеском восхищения. – Вы прямо свели всю Асторовскую библиотеку в содержание предшествующих глав. Я знаю этого старого турка, про которого вы говорите. Я читал и «Арабские ночи», когда я был ребёнком. Слушайте: вы можете взмахнуть волшебной кухонной тряпкой и вызвать из бутылки гиганта? Только, пожалуйста, чтобы он не хватал меня за ноги. Для моего случая такое лечение не годится.
– Я хотел бы выслушать вашу историю, – сказал маркграф со своей важной, серьёзной улыбкой.
– Я расскажу вам её в девяти словах, – сказал молодой человек с глубоким вздохом. – Но я не думаю, чтоб вы хоть сколько-нибудь могли помочь мне. Разве только что вы можете слетать за разгадкой, на вашем волшебном линолеуме, на Босфор.
Золото, которое блеснуло
Рассказ с моралью подобен москиту с его жалом. Он вам сначала надоедает, а после себя оставляет яд, который надолго отравляет нашу совесть. Поэтому лучше всего начать с нравоучения, чтобы сразу же с ним и покончить. Не всё то золото, что блестит, – но иногда бывает благоразумнее подальше убрать пузырёк с кислотой и воздержаться от испытания подлинности металла.
Вблизи того места, где Бродвей подходит к площади, над которой царит Правдивый Джордж[10 - Правдивый Джордж – памятник Джорджу Вашингтону.], находится Литл-Риальто. Здесь можно встретить всех актёров района; это их штаб-квартира. «Никаких мягких, – говорю я Фроману, – два с половиной доллара за выход; ни центом меньше не возьму». – И ухожу.
К западу и к югу от царства Мельпомены лежат одна или две улицы, где тесно жмутся другу к другу представители испано-американской колонии в надежде создать себе хоть некоторую иллюзию тропической жары на беспощадном севере. Центром, вокруг которого сосредоточивается вся жизнь этой местности, является «Эль-Рефугио», кафе-ресторан, обслуживающий легкомысленных эмигрантов с юга. Из Чили, Боливии, Колумбии, из вечно шумящих республик Центральной Америки, с кипящих страстями Вест-Индских островов залетают сюда одетые в плащ и сомбреро сеньоры, выбрасываемые, подобно горячей лаве, из своих государств политическими извержениями. Сюда они являются, чтобы составлять заговоры, ожидать благоприятной минуты, добывать средства, вербовать флибустьеров, вывозить контрабандой оружие и военные припасы – одним словом, заниматься различными авантюрами. Здесь, в «Эль-Рефугио», господствует атмосфера, необходимая для их процветания.
В ресторане «Эль-Рефугио» подаются кушанья, наиболее ценимые жителями стран, лежащих между Козерогом и Раком. Из человеколюбия мы должны здесь на время прервать наш рассказ.
О ты, едок, которому надоели кулинарные ухищрения галлов! Отправляйся в «Эль-Рефугио»! Только там найдёшь ты рыбу из Мексиканского залива, поджаренную по-испански. Томаты придают ей цвет, индивидуальность и дух; чилийская капуста сообщает ей вкус, оригинальность и прелесть; неведомые травы добавляют пикантность, экзотичность и… впрочем, заключительное совершенство её заслуживает отдельного предложения. Вокруг неё, над ней, под ней, поблизости – но отнюдь не в ней самой – витает эфирная аура, эманация столь тонкая и нежная, что только Общество психических изысканий могло бы открыть её происхождение. Не позволяйте себе утверждать, что в «Эль-Рефугио» кладут в рыбу чеснок. Можно только сказать, что дух чеснока, пролетая, мимоходом коснулся устами обложенного петрушкой блюда; но поцелуй этот неизгладим, как воспоминание о тех поцелуях, которые «в мечтаниях ты срываешь с уст, уж отданных другому». А потом, когда Кончито, слуга, подаёт вам порцию румяных frijoles[11 - Бобы (исп.).] и графин вина, которое прямым сообщением приехало без остановок в «Эль-Рефугио» из Опорто, – ah, Dios!..
Однажды с пассажирского парохода Гамбургско-Американской линии сошёл на пристань номер пятьдесят пять генерал Перрико Хименес Виллабланка Фалькон, прибывший из Картахены. Мастью генерал был не то рыжий, не то гнедой, объём его талии равнялся сорока двум дюймам, а рост его, вместе с каблуками времён Людовика XV, не превышал пяти футов четырёх дюймов. По усам его можно было принять за содержателя тира; одет он был как член конгресса из Техаса и держался с важным видом делегата, получившего неограниченные полномочия.
Генерал Фалькон был достаточно знаком с английским языком, чтобы спросить, как пройти на улицу, где помещается «Эль-Рефугио». Дойдя до тех краёв, он увидел приличного вида красный кирпичный дом, на котором была вывеска «Hotel Espanol[12 - «Отель “Испания”» (исп.).]». В окне была выставлена карточка, на которой было написано по-испански: «Aqui se habla Espanol[13 - «Здесь говорят по-испански» (исп.).]». Генерал вошёл, уверенный в том, что он найдёт здесь тихую пристань у соотечественников.
В уютно обставленной конторе сидела владелица, миссис О’Брайен. Это была блондинка – несомненная, безупречная блондинка. Что касается прочего, то она была воплощённая любезность и отличалась довольно внушительными размерами. Генерал Фалькон почтительно её приветствовал, отвесив ей низкий поклон, причём его широкополая шляпа даже слегка коснулась земли, и разразился по-испански речью, извергая слова как пулемёт.
– Испанец или даго[14 - Dago – прозвище итальянцев, португальцев, южноамериканцев латинской расы и т.?д. (Прим. пер.).]? – любезно спросила миссис О’Брайен.
– Я из Колумбии, сеньора, – гордо ответил генерал. – Я говорю испанский. На вашем окно написано: здесь говорят по-испански. Как же это?
– Да ведь вы же сейчас и говорили по-испански, – возразила дама. – А я-то вот и не умею.
Генерал Фалькон снял в гостинице номер и устроился в нём. Когда начало смеркаться, он вышел на улицу, чтобы полюбоваться диковинами оглушительно шумной северной столицы. По дороге он вспомнил необыкновенно золотистые волосы миссис О’Брайен. «Вот где, – сказал себе генерал (без сомнения, на родном языке), – можно найти самых красивых сеньор в мире. Родная Колумбия не имеет подобных красавиц среди своих дочерей. Но что я! Не мне, не генералу Фалькону, думать о красоте! Все мои помыслы должны принадлежать моей родине!»
На углу Бродвея и Литл-Риальто генерал растерялся. Трамваи ошеломляли его, а под конец предохранительная решётка одного из них бросила его на ручную тележку, наполненную апельсинами. Извозчик чуть не наехал на него, даже слегка задел беднягу, и излил на его голову поток отборной ругани. Генерал кое-как добрался до тротуара, но сейчас же привскочил в ужасе, услыхав над ухом резкий свисток и почувствовав, что его обдало горячим паром: на этот раз его испугала переносная жаровня для орехов… «Yalgame Dios[15 - Клянусь Богом! (исп.)]! Что за дьявольский город!»
Как подстреленная птица, генерал отпрыгнул в сторону от бесконечного потока прохожих, и тут его одновременно увидели и наметили как подходящую дичь два охотника. Один был «Забияка» Мак-Гайр, охотничья система которого была основана на употреблении кулаков и злоупотреблении металлической трубкой дюймов в восемь длины. Второй Нимврод мостовой был некто Келли, по прозвищу «Паук», спортсмен, признававший лишь более утончённые методы.
Оба сразу бросились на столь явную добычу, как генерал; но при этом мистер Келли на секунду опередил своего соперника. Он только-только успел отстранить локтем наскочившего мистера Мак-Гайра.
– Пшёл вон! – резко объявил он. – Я первый увидал его.
– Я была нехорошая, Сюди, – сказала Джонси. – Что-то заставило последний лист остаться на месте, чтобы показать мне, как я была виновата; грешно желать смерти. Дай мне теперь немного бульону и молока с портвейном. Но нет! Прежде всего дай мне ручное зеркало, а потом положи мне за спину подушки; я буду сидеть и смотреть, как ты готовишь.
Через час она сказала:
– Сюди, я надеюсь когда-нибудь написать Неаполитанский залив.
Доктор зашёл днём, и Сю под каким-то предлогом вышла проводить его в коридор.
– Равные шансы, – сказал доктор, пожимая худенькую дрожащую ручку Сю. – При хорошем уходе вы победите. А теперь я должен навестить другого пациента здесь внизу. Его фамилия Берман. Он, кажется, что-то вроде художника. Тоже пневмония. Он слабый старик, а форма болезни тяжёлая. Для него нет надежды; но я его сегодня отправлю в больницу, чтоб ему было удобнее.
На следующий день доктор сказал Сю:
– Она вне опасности. Вы победили. Питание и уход – это теперь всё, что нужно.
Вечером Сю подошла к постели, сидя в которой Джонси с довольным видом вязала ярко-синий и ярко бесполезный шерстяной шарфик. Сю обняла её вместе с подушками.
– Мне надо что-то рассказать тебе, белая мышка, – сказала она. – Мистер Берман скончался сегодня в больнице от пневмонии. Он проболел всего два дня. Швейцар нашёл его в первый день утром в его комнате без памяти. Его башмаки и одежда промокли насквозь и были холодны, как лёд. Они не могут себе представить, куда он выходил в такую ужасную ночь. А потом они нашли фонарь, ещё зажжённый, лестницу, сдвинутую со своего места, разбросанные кисти и палитру, на которой были смешаны зелёная и жёлтая краски. Взгляни теперь в окно, дорогая, на последний лист винограда на стене. Тебя не удивляло, что он ни разу не дрогнул и не шевельнулся под порывами ветра? Дорогая моя, ведь это шедевр Бермана! Он нарисовал его в ту ночь, когда упал последний лист.
Багдадская птица
Без всякого сомнения, дух и гений калифа Гаруна аль-Рашида осенил маркграфа[7 - Маркгра?ф – в раннем Средневековье в Западной Европе должностное лицо в подчинении короля, наделённое широкими административными, военными и судебными полномочиями в марке.] Августа-Михаила фон Паульсена Квигга.
Ресторан Квигга находится на Четвёртой авеню – на улице, которую город как будто позабыл в своём росте. Четвёртая авеню, рождённая и воспитанная в Бауэри, смело устремляется на север, полная благих намерений.
Там, где она пересекает Четырнадцатую улицу, она с важностью величается одно короткое мгновение в блеске музеев и дешёвых театров. Она могла бы, начиная отсюда, стать равной своему высокорождённому брату бульвару, который тянется отсюда на запад, или своему шумному, многоязычному, широкогрудому кузену на востоке. Она проходит через Юнион-сквер, и здесь копыта ломовых лошадей топчут её в унисон, вызывая в памяти топот марширующей толпы. Но вот подступают молчаливые и грозные горы – здания, широкие, как крепости, высокие до облаков, закрывающие небо, дома, в которых тысячи рабов проводят целые дни, склонившись над своими конторками. В нижних этажах помещаются только маленькие фруктовые лавки, прачечные и лавки букинистов. А затем бедная Четвёртая авеню впадает в одиночество Средневековья. С каждой стороны её обступают лавки, посвящённые антикам[8 - Анти?к – художественный памятник древности или то, что носит отпечаток старины.].
Ночь. Люди в ржавых доспехах стоят в окнах и грозят кулаками в ржавых железных рукавицах торопливым автомобилям. Панцири и шлемы, мушкеты кромвелевских времён, нагрудники, кремнёвые ружья, мечи и кинжалы целой армии давно отошедших храбрецов таинственно блестят в бледном, нездешнем свете. Время от времени из ярко освещённого углового бара выходит гражданин, возбуждённый возлияниями, и робко ступает на древнюю улицу, ощетинившуюся окровавленным оружием воинственных мертвецов. Какая улица может жить в окаймлении этих смертных реликвий и попираемая этими призрачными пьянчужками, в упавших сердцах которых замерла уже последняя нота кабацкого «тра-ля-ля»?..
Четвёртая авеню не может. Даже после мишурного, но возбуждающего блеска Литл-Риальто, даже после оглушительных барабанов Юнион-сквер. Нечего тут проливать слёзы, леди и джентльмены: это только самоубийство улицы. С визгом и скрежетом Четвёртая авеню ныряет головою вниз в туннель у пересечения с Тридцать четвёртой – и больше уже никто её не видел…
Скромный ресторан Квигга стоял поблизости от этого печального зрелища гибнущей улицы. Он стоит там и сейчас, и, если вы хотите полюбоваться его обваливающимся краснокирпичным фасадом, его витриной, набитой апельсинами, томатами, кексами, спаржей в банках, его омаром из папье-маше и двумя живыми мальтийскими кошечками, спящими на пучке латука; если вы хотите посидеть за одним из его маленьких столиков, покрытым скатертью, на которой желтейшими из кофейных пятен обозначен путь грядущего нашествия на нас японцев, – посидеть, не спуская одного вашего глаза с вашего зонтика, а другой уперев в подложную бутылку, из которой вы потом накапаете себе поддельной сои, которой нас награждает проклятый шарлатан, выдающий себя за нашего милого старого господина и друга «индийского дворянина», – идите к Квиггу.
Титул свой Квигг получил через мать. Одна из её прабабок была маркграфиней Саксонской. Его отец был молодцом из тамманийской шайки. Квигг учёл раздвоение своей наследственности и понял, что никогда не сможет ни стать владетельным герцогом, ни получить должность по городскому самоуправлению. И он решил открыть ресторан. Это был человек мыслящий и начитанный. Дело давало ему возможность жить, хотя он и мало интересовался делами. Одна часть его предков одарила его натурой поэтической и романтической, другая завещала ему беспокойный дух, толкавший его на поиски приключений. Днём он был Квигг-ресторатор. Ночью он был маркграф, калиф, цыганский барон. И ночью он бродил по городу в чаянии странного, таинственного, необъяснимого, тёмного.
Однажды вечером, в девять часов, когда ресторан закрылся, Квигг выступил в свой ночной поход. Когда он наглухо застёгивал своё пальто, он являл с своей коротко подстриженной, тёмной с проседью бородой смесь чего-то иностранного, военного и артистического. Он взял курс на запад, по направлению к центральным и оживлённым артериям города. В кармане у него был целый ассортимент надписанных визитных карточек, без которых он никогда не выходил на улицу. Каждая из этих карточек представляла собою чек из его ресторана. Некоторые давали право на бесплатную тарелку супа или на кофе с бутербродом, другие давали предъявителю право на один, два, три и больше обедов, третьи – на то или другое отдельное блюдо из меню. Некоторые – их было немного – являлись талонами на пансион в течение целой недели.
Богатством и могуществом маркграф Квигг не обладал, но у него было сердце калифа[9 - Кали?ф – титул феодального верховного правителя мусульман, совмещавшего духовную и светскую власть в ряде стран Ближнего и Среднего Востока, а также лицо, носившее этот титул.]: быть может, некоторые золотые монеты, розданные в Багдаде на базаре, распространили среди несчастных меньше тепла и надежды, чем Квиггово бычачье рагу между рыбаками и одноглазыми коробейниками Манхэттена.
Продолжая свой путь в поисках романтического приключения, которое развлекло бы его, или бедствия, в котором он мог бы оказать помощь, Квигг увидел на углу Бродвея и пересекающего его бульвара толпу. Толпа быстро росла, люди галдели и дрались. Он поспешил подойти поближе и увидел в центре молодого человека, в высшей степени меланхолической наружности, спокойно и сосредоточенно достававшего из своего кармана серебряную мелочь и посыпавшего ею мостовую. Каждое движение руки щедрого молодого человека сопровождалось радостным рёвом толпы, сейчас же устремлявшейся на добычу. Уличное движение приостановилось. Полисмен в центре толпы, ежеминутно наклоняясь к земле, убеждал толпу разойтись.
Маркграф сразу понял, что его интерес к отклонениям человеческого сердца в сторону ненормального найдёт себе здесь пищу. Он быстро пробился к молодому человеку и взял его под руку.
– Идите сейчас же со мной, – сказал он тихим, но повелительным голосом, которого так боялись его лакеи.
– Испёкся, – сказал молодой человек, глядя на него ничего не выражающими глазами. – Попал в руки к дантисту, вырывающему зубы без боли. Ну, ведите меня куда надо. Некоторые кладут яйца, а некоторые не кладут. Когда курица?..
Всё ещё глубоко подавленный каким-то внутренним потрясением, но сговорчивый, молодой человек дал себя увести. Квигг привёл его в маленький сквер и усадил на скамейке.
Осенённый уголком плаща великого калифа, Квигг заговорил с мягкостью и осторожностью. Он пробовал узнать, какая беда стряслась с молодым человеком, расстроила его дух и толкнула его на столь легкомысленное и разорительное расточение его добра и имущества.
– Я изображал Монте-Кристо, правда? – спросил молодой человек.
– Вы швыряли на мостовую мелочь, – сказал калиф, – чтобы толпа ползала за ней на коленях.
– Вот именно. Сначала пьёшь пиво, сколько можешь влить в себя, а потом начинаешь кормить цыплят… Прокляты они будь – цыплята, куры, перья, вертела, яйца и всё, что к ним относится.
– Молодой человек, – сказал маркграф мягко, но с достоинством. – Я не говорю вам: будьте со мной откровенны, я только приглашаю вас к откровенности. Я знаю свет и знаю людей. Человек – предмет моего изучения, хотя я и не смотрю на него, подобно учёному, как на насекомое, или, подобно филантропу, – как на объект для приложения своих деяний. Между мною и человеком нет дымки теории и невежества. Я интересуюсь особыми и сложными неудачами, в которые ввергает моего брата, человека, жизнь в большом городе. Это изучение доставляет мне развлечение и радость. Вам, может быть, известна история славного и бессмертного правителя, калифа Гаруна аль-Рашида, чьи мудрые и благодетельные экскурсии в жизнь его народа в Багдаде дали ему счастливую возможность исцелить столько ран? Я смиренно шествую по его стопам. Я ищу романтику и приключения не в руинах замков и не в развалинах дворцов, а на улицах города. Величайшие чудеса магии, с моей точки зрения, развёртываются в человеческом сердце, вызываемые свирепыми и противоречивыми силами скученного в городе множества. В вашем странном сегодняшнем поведении мне чудится роман. Ваш поступок представляется мне чем-то более глубоким, чем безобразничанием обыкновенного мота. Я замечаю на вашем лице черты, свидетельствующие о снедающем вас горе и даже отчаянии. Повторяю: я приглашаю вас к откровенности. Я не лишён некоторой возможности облегчить или посоветовать. Хотите довериться мне?
– А вы здорово говорите! – воскликнул молодой человек, и туманная печаль в его глазах сменилась на мгновение блеском восхищения. – Вы прямо свели всю Асторовскую библиотеку в содержание предшествующих глав. Я знаю этого старого турка, про которого вы говорите. Я читал и «Арабские ночи», когда я был ребёнком. Слушайте: вы можете взмахнуть волшебной кухонной тряпкой и вызвать из бутылки гиганта? Только, пожалуйста, чтобы он не хватал меня за ноги. Для моего случая такое лечение не годится.
– Я хотел бы выслушать вашу историю, – сказал маркграф со своей важной, серьёзной улыбкой.
– Я расскажу вам её в девяти словах, – сказал молодой человек с глубоким вздохом. – Но я не думаю, чтоб вы хоть сколько-нибудь могли помочь мне. Разве только что вы можете слетать за разгадкой, на вашем волшебном линолеуме, на Босфор.
Золото, которое блеснуло
Рассказ с моралью подобен москиту с его жалом. Он вам сначала надоедает, а после себя оставляет яд, который надолго отравляет нашу совесть. Поэтому лучше всего начать с нравоучения, чтобы сразу же с ним и покончить. Не всё то золото, что блестит, – но иногда бывает благоразумнее подальше убрать пузырёк с кислотой и воздержаться от испытания подлинности металла.
Вблизи того места, где Бродвей подходит к площади, над которой царит Правдивый Джордж[10 - Правдивый Джордж – памятник Джорджу Вашингтону.], находится Литл-Риальто. Здесь можно встретить всех актёров района; это их штаб-квартира. «Никаких мягких, – говорю я Фроману, – два с половиной доллара за выход; ни центом меньше не возьму». – И ухожу.
К западу и к югу от царства Мельпомены лежат одна или две улицы, где тесно жмутся другу к другу представители испано-американской колонии в надежде создать себе хоть некоторую иллюзию тропической жары на беспощадном севере. Центром, вокруг которого сосредоточивается вся жизнь этой местности, является «Эль-Рефугио», кафе-ресторан, обслуживающий легкомысленных эмигрантов с юга. Из Чили, Боливии, Колумбии, из вечно шумящих республик Центральной Америки, с кипящих страстями Вест-Индских островов залетают сюда одетые в плащ и сомбреро сеньоры, выбрасываемые, подобно горячей лаве, из своих государств политическими извержениями. Сюда они являются, чтобы составлять заговоры, ожидать благоприятной минуты, добывать средства, вербовать флибустьеров, вывозить контрабандой оружие и военные припасы – одним словом, заниматься различными авантюрами. Здесь, в «Эль-Рефугио», господствует атмосфера, необходимая для их процветания.
В ресторане «Эль-Рефугио» подаются кушанья, наиболее ценимые жителями стран, лежащих между Козерогом и Раком. Из человеколюбия мы должны здесь на время прервать наш рассказ.
О ты, едок, которому надоели кулинарные ухищрения галлов! Отправляйся в «Эль-Рефугио»! Только там найдёшь ты рыбу из Мексиканского залива, поджаренную по-испански. Томаты придают ей цвет, индивидуальность и дух; чилийская капуста сообщает ей вкус, оригинальность и прелесть; неведомые травы добавляют пикантность, экзотичность и… впрочем, заключительное совершенство её заслуживает отдельного предложения. Вокруг неё, над ней, под ней, поблизости – но отнюдь не в ней самой – витает эфирная аура, эманация столь тонкая и нежная, что только Общество психических изысканий могло бы открыть её происхождение. Не позволяйте себе утверждать, что в «Эль-Рефугио» кладут в рыбу чеснок. Можно только сказать, что дух чеснока, пролетая, мимоходом коснулся устами обложенного петрушкой блюда; но поцелуй этот неизгладим, как воспоминание о тех поцелуях, которые «в мечтаниях ты срываешь с уст, уж отданных другому». А потом, когда Кончито, слуга, подаёт вам порцию румяных frijoles[11 - Бобы (исп.).] и графин вина, которое прямым сообщением приехало без остановок в «Эль-Рефугио» из Опорто, – ah, Dios!..
Однажды с пассажирского парохода Гамбургско-Американской линии сошёл на пристань номер пятьдесят пять генерал Перрико Хименес Виллабланка Фалькон, прибывший из Картахены. Мастью генерал был не то рыжий, не то гнедой, объём его талии равнялся сорока двум дюймам, а рост его, вместе с каблуками времён Людовика XV, не превышал пяти футов четырёх дюймов. По усам его можно было принять за содержателя тира; одет он был как член конгресса из Техаса и держался с важным видом делегата, получившего неограниченные полномочия.
Генерал Фалькон был достаточно знаком с английским языком, чтобы спросить, как пройти на улицу, где помещается «Эль-Рефугио». Дойдя до тех краёв, он увидел приличного вида красный кирпичный дом, на котором была вывеска «Hotel Espanol[12 - «Отель “Испания”» (исп.).]». В окне была выставлена карточка, на которой было написано по-испански: «Aqui se habla Espanol[13 - «Здесь говорят по-испански» (исп.).]». Генерал вошёл, уверенный в том, что он найдёт здесь тихую пристань у соотечественников.
В уютно обставленной конторе сидела владелица, миссис О’Брайен. Это была блондинка – несомненная, безупречная блондинка. Что касается прочего, то она была воплощённая любезность и отличалась довольно внушительными размерами. Генерал Фалькон почтительно её приветствовал, отвесив ей низкий поклон, причём его широкополая шляпа даже слегка коснулась земли, и разразился по-испански речью, извергая слова как пулемёт.
– Испанец или даго[14 - Dago – прозвище итальянцев, португальцев, южноамериканцев латинской расы и т.?д. (Прим. пер.).]? – любезно спросила миссис О’Брайен.
– Я из Колумбии, сеньора, – гордо ответил генерал. – Я говорю испанский. На вашем окно написано: здесь говорят по-испански. Как же это?
– Да ведь вы же сейчас и говорили по-испански, – возразила дама. – А я-то вот и не умею.
Генерал Фалькон снял в гостинице номер и устроился в нём. Когда начало смеркаться, он вышел на улицу, чтобы полюбоваться диковинами оглушительно шумной северной столицы. По дороге он вспомнил необыкновенно золотистые волосы миссис О’Брайен. «Вот где, – сказал себе генерал (без сомнения, на родном языке), – можно найти самых красивых сеньор в мире. Родная Колумбия не имеет подобных красавиц среди своих дочерей. Но что я! Не мне, не генералу Фалькону, думать о красоте! Все мои помыслы должны принадлежать моей родине!»
На углу Бродвея и Литл-Риальто генерал растерялся. Трамваи ошеломляли его, а под конец предохранительная решётка одного из них бросила его на ручную тележку, наполненную апельсинами. Извозчик чуть не наехал на него, даже слегка задел беднягу, и излил на его голову поток отборной ругани. Генерал кое-как добрался до тротуара, но сейчас же привскочил в ужасе, услыхав над ухом резкий свисток и почувствовав, что его обдало горячим паром: на этот раз его испугала переносная жаровня для орехов… «Yalgame Dios[15 - Клянусь Богом! (исп.)]! Что за дьявольский город!»
Как подстреленная птица, генерал отпрыгнул в сторону от бесконечного потока прохожих, и тут его одновременно увидели и наметили как подходящую дичь два охотника. Один был «Забияка» Мак-Гайр, охотничья система которого была основана на употреблении кулаков и злоупотреблении металлической трубкой дюймов в восемь длины. Второй Нимврод мостовой был некто Келли, по прозвищу «Паук», спортсмен, признававший лишь более утончённые методы.
Оба сразу бросились на столь явную добычу, как генерал; но при этом мистер Келли на секунду опередил своего соперника. Он только-только успел отстранить локтем наскочившего мистера Мак-Гайра.
– Пшёл вон! – резко объявил он. – Я первый увидал его.