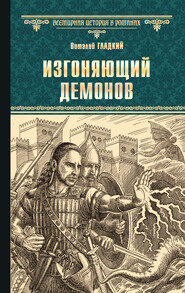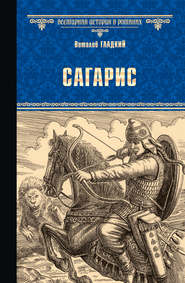По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Корсары Мейна
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Бедный Антуан был твоим другом, – сказал король нищих и воров. – Тебе предоставляется возможность отдать должное его памяти.
– Премного благодарен! – воскликнул Буатель. – Это честь для меня.
Он обернулся к Мишелю де Граммону, выхватил шпагу из ножен и злобно процедил сквозь зубы:
– Ну, держись, петушок. Сейчас я подстригу твои перышки…
Мишель презрительно отмолчался. Еще чего – дворянину вступать в пререкания с простолюдином, тем более вором и мошенником. По кодексу чести он вообще не должен драться с Буателем, но тогда его просто зарежут, как барана, а этого гордый отпрыск старинного дворянского рода допустить не мог.
Им освободили место для дуэли – пока шли разговоры, народу во дворе прибавилось. Появились женщины – две старые мегеры и несколько вполне приятных особ – и дети, а также десятка два калек. Они только начали гримироваться для выхода «в свет», поэтому представляли собой забавное и одновременно отталкивающее зрелище. Изображавший ветерана Тридцатилетней войны в изрядно потрепанном мундире какого-то королевского полка прыгал на одной ноге, а вторая была притянута тряпичными лентами к бедру сзади, но еще не замаскирована широкой штаниной; двое страдальцев держали в руках тонкие срезы гниющего мяса, которые должны были изображать язвы на теле, еще один умелец уже приклеил к рукам и ногам стигматы – рыбьи пузыри, наполненные бычьей кровью, и ему оставалось лишь нанести поверх них толстый слой грима под цвет кожи…
Но Мишелю было не до созерцания мошенников, обитавших в главном Дворе чудес Парижа. Ему предстояло драться за свою жизнь. Мишель не сомневался, что Великий Кэзр жаждет лишь одного – смерти того, кто убил кагу Антуана. Поэтому, если он будет ранен, даже легко, его просто добьют.
– Атакуй с нижней позиции… – вдруг донесся до Мишеля чей-то тихий голос.
Юноша скосил глаза и понял, что это сказал де Сарсель – хотя тот и смотрел в другую сторону, – который будто случайно оказался рядом с ним. Мишель не подал виду, что услышал, тем более Буатель уже следил за ним своими жабьими глазищами.
Едва они скрестили шпаги, Мишель понял, что Буатель отменно владеет оружием. Он атаковал быстро и точно, и юноше приходилось надеяться только на крепость своих ног и скорость реакции – главный козырь юности. Мишель сразу понял, почему де Сарсель дал ему такую подсказку: у Буателя были какие-то нелады со спиной, и ему не хватало гибкости, чтобы отражать выпады. Юноша лишь сделал несколько намеков на атаку снизу – вроде случайно, и Буателю пришлось изрядно потрудиться, чтобы уйти от опасности.
Мишель выжидал. Он хотел усыпить бдительность Буателя и больше защищался, нежели атаковал, что, в общем, выглядело со стороны вполне закономерно: плохого бойца Великий Кэзр не решился бы выставить против юного дворянина.
Буатель предпочитал высокую – испанскую – стойку. Он наносил удар в голову и сразу же за этим пытался уколоть Мишеля в глаза или в шею. Он стоял ровно, выпады делал очень короткие; выходя на дистанцию, Буатель сгибал правое колено, выпрямлял левое и переносил корпус вперед. Отступая, он сгибал левое колено и выпрямлял правое. Такой маятник Мишель читал легко и успевал вовремя защититься.
Сам он решил работать в низкой итальянской стойке – оба колена согнуты, запястье и острие клинка опущены; левую руку Мишель держал у груди, чтобы парировать ею выпад Буателя и сразу же нанести ответный укол. Кроме того, он часто менял стойку, чтобы озадачить противника: время от времени поднимал запястье и острие клинка на уровень плеча или держал запястье высоко, а острие клинка опускал пониже, атаковал Буателя то справа, то слева… Обычно дуэлянты, работающие в итальянской стойке, редко прибегают к удлиненному выпаду с низкой позиции, ограничиваясь короткими атаками на разных линиях, и Мишель делал все, чтобы его противник уверился в этом.
Зрителям поединок нравился; они подбадривали Буателя криками, свистели, топали по плитам, которыми был вымощен двор. Даже Великий Кэзр не остался равнодушным наблюдателем; он подпрыгивал на своем троне, как туго набитый тряпичный мяч, и, когда следовал эффектный выпад, хлопал в ладоши и смеялся, как ребенок. Лишь один Пьер де Сарсель был суров и мрачен; он с напряженным вниманием следил за боем, лицо его превратилось в неподвижную маску, лишь глаза из серых стали почти голубыми и сияли на загорелом лице, будто два сапфира чистой воды.
Но вот наступил долгожданный момент – Буатель нанес противнику укол в голову и на какой-то миг потерял равновесие. Мишель словно взорвался; он низко пригнулся и стремительно бросился вперед, распластавшись над землей, как большая птица. Его соперник даже не успел понять, почему в груди внезапно возникла острая боль, а земля вдруг завертелась и приблизилась так, что он стал различать мелкие соломинки на плитах. Но это продолжалось недолго; чернота залила все вокруг, и Буатель отправился в Эреб, где его давно и с нетерпением поджидал старина Харон, чтобы перевезти в своей лодке прямиком в ад.
Во Дворе чудес воцарилась мертвая тишина. Даже назойливые мухи, казалось, перестали жужжать. Великий Кэзр окаменел на своем троне и тупо пялился на неподвижное тело Буателя, возле которого появилась красная лужица, увеличивающаяся в размерах. Молчали и друзья Мишеля – они уже мысленно простились с ним. И не только с ним, но и со своей жизнью – они не очень верили слову короля нищих и воров.
Что касается Пьера де Сарселя, то на его лице трудно было что-то прочитать. Но короткий, выразительный взгляд, который он бросил на Мишеля де Граммона, говорил о многом. В нем были и восхищение, и уважение бывалого дуэлянта к молодому человеку, столь мастерски орудующему клинком, и почти отеческая доброта.
Наконец Великий Кэзр шевельнулся и невыразительным голосом сказал, обращаясь к Мишелю:
– Все… Божий суд свершился. Он определил, что ты не виноват. Идите с миром. Я держу свое слово. Но если еще когда-нибудь случится нечто подобное… – тут голос короля нищих и воров зазвенел, как сталь, – тогда берегитесь! Мы не склонны забывать и прощать обиды, кто бы нам их ни причинил!
Он соскочил с кресла и почти бегом устремился во внутренние покои своего «дворца». За ним потянулась и свита. Спустя пару минут двор опустел. К Мишелю подошел де Сарсель и спросил:
– Вы по-прежнему живете на улице Могильщиков?
– Да, мсье…
Врать было бессмысленно, тем более что Мишель вдруг почувствовал доверие к этому странному человеку.
– Всего вам доброго…
Пьер де Сарсель слегка кивнул и последовал за хозяином Двора чудес.
Юные дворяне переглянулись и быстрым шагом направились к калитке, где их уже ждали «мушкетеры». Судя по выражению лиц, они не держали зла на Мишеля. Наверное, и кагу Антуан, и Буатель были не шибко приятными личностями и не пользовались большой популярностью, их смерть – всего лишь малозначительный эпизод в жизни Двора чудес, ни в коей мере не затрагивающий судьбы ряженых стражей. День прошел – и ладно. Каждому свое: кому лежать в земле, а кому кутить в таверне на последние медяки…
– Фух! – громко выдохнул Готье, когда они оказались далеко от кладбища Невинных и Двора чудес. – Я думал, нам конец… Сегодня же схожу в церковь Сен-Сюльпис и поставлю во здравие самую толстую свечу!
– Это нам Господь послал наказание за наши грехи, – мрачно заявил Морис. – Не надо было воровать кружку для пожертвований.
– Эй, а у нас ведь осталось еще немного денег! – воскликнул Жюль. – Готье, в церковь сходить ты всегда успеешь. А ты, Морис, выбрось дурные мысли из головы. Два раза за одно и то же не наказывают, а поскольку свой грех мы уже искупили, теперь можем использовать деньги по назначению без зазрения совести. Есть предложение посетить таверну. А то у меня во рту пустыня, да и желудок к хребту прилип от переживаний.
– Согласен! – сказал Готье. – Только не в «Шлем сарацина»! Теперь я к Папаше Тухлятине ни ногой.
– Тогда держим путь в «Трюмильер»! Гип-гип-ура! – Жюль подбросил шляпу.
– А ты что молчишь, Мишу? – спросил Морис.
Все выжидающе уставились на Мишеля де Граммона; все-таки он был главным заводилой компании и его слово многое значило.
Мишель устало махнул рукой и буркнул:
– Я не возражаю.
Он был выжат как лимон. Ему и впрямь было все равно, куда идти и что делать, лишь бы подальше от Двора чудес…
Когда изрядно стемнело, парижскую улицу, которая именовалась Медвежьей, огласил веселый хохот, а затем и задорная песенка, которую распевали наши хмельные герои, возвращаясь домой. В песне рассказывалось про чиновника, готового получить мзду даже старым рваньем, и о беспредельной жадности хозяина таверны, способного взять в залог штаны пьяницы.
…Затем дарю я мсье Роберу,
Писцу Парижского суда,
Глупцу, ретивому не в меру,
Мои штаны, невесть когда
Заложенные, – не беда!
Пусть выкупит из «Трюмильер»
И перешьет их, коль нужда,
Своей Жанетте де Мильер![16 - Стихи Франсуа Вийона, поэта французского средневековья.]
Медвежья улица лежала неподалеку от улицы Сен-Мартен и славилась своими тавернами. В древние времена здесь было много харчевен и лавок, торговавших жареным мясом и птицей; называлась тогда улица Гусиной. Со временем гуси, видимо, выросли до размеров медведей – всего-то и понадобилось одну букву в слове исправить, – а вместо мясных лавок на Медвежьей улице появилось несколько приличных таверен.
Мишель де Граммон пел вместе с остальными, но у него из головы не выходил таинственный Пьер де Сарсель, который когда-то воевал вместе с его отцом. Юноша чувствовал, что встреча с ним во Дворе чудес – не последняя.
Глава 4. Амурные приключения
Молодому человеку присуща влюбленность, даже если он бурсак. Но низменность полуголодного существования спудеев мало располагала к амурам. И то – какая девица согласится прогуляться по улицам Киева с оборванцем, будь он даже писаным красавцем? В этом отношении в бурсе был лишь один привилегированный класс – богословы. Любой спудей высшего отделения мог в один прекрасный день стать женихом. Это слово бурсаки произносили мечтательно, с пиететом, потому что оно было желанным ключом к свободе.
От двенадцатилетнего мальчика из фары до спудея, которому давно минуло двадцать, от последнего лентяя до первого ученика, все думали лишь одну радостную думу, что однажды и ему привалит счастье, и он покинет ободранные стены бурсы, что больше никогда в его жизни не будет опостылевшей зубрежки, розог аудитора и «воздусей», а вместо привычной «черняшки» – зачерствевшего куска ржаного хлеба – на столе будет миска с карасями в сметане и штоф горилки.
Когда священник уходил в мир иной, у него оставалось семейство – жена, дети. Церковный дом, земля, сад, луг и прочее хозяйство должно было перейти к преемнику, но куда деваться семье? Хоть по свету с сумой иди! Оставалось последнее средство, чтобы закрепить имущество и приход, – выдать замуж какую-нибудь из дочерей священника. Это делалось быстро, потому что хлебные места были наперечет, а среди святых отцов находились еще те ловкачи. Подсунут нужную бумагу епархиальному начальству, дадут мзду, и уплыл приход в чужие руки.
Бывало и так, что невеста, проживая за сотню или более верст, не успевала ко времени приехать в главный епархиальный город на встречу с женихом, а претендент на место ее батюшки не имел средств и времени съездить к суженой. Тогда обе стороны списывались, давалось заочное согласие, и, получив указ о поступлении на место, жених ехал к невесте, томясь в неведении: того ли кота он вытащил из мешка? Нередко дело доходило до скандала – невеста попадалась старая, рябая, сварливая, и жених еще до свадьбы порывался поколотить будущую попадью, да так, чтобы дух из нее вон.
Но иногда случалось, что невесту не брал в жены даже самый распоследний жених. Тогда ее привозили в бурсу, и умелые свахи спускали залежалый и бракованный товар с удивительной ловкостью: щеки невесты штукатурились, смотрины назначались вечером, при слабом освещении, и лицо, побитое оспой, выходило гладким, старое виделось молодым, а утянутая корсетом фигура ничем не напоминала расплывшуюся квашню.