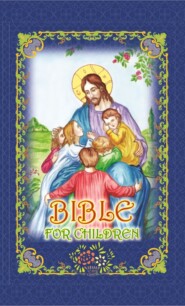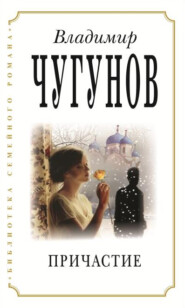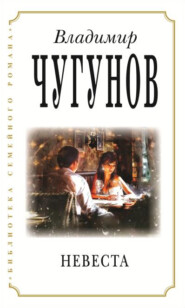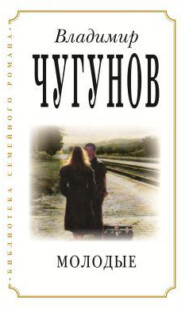По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
После катастрофы
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Слова Горбачёва конкретизируют время фильма.
25 декабря 1991 года, после подписания Беловежских соглашений, Горбачёв сложил с себя полномочия президента СССР.
Это послужило поводом к вооружению старых игрушек (старой гвардии). Берия в общем строю. Воскресший Феликс (неужели Путин?) протягивает девочке пластиковый шарик с приказом, и верная «священным принципам» пионерка его отдаёт. В результате последнего и решающего сражения государство восстанавливается на прежних основаниях.
И вроде бы, думал Евдокимов, всё понятно, если к тому же вспомнить главный лозунг хунвэйбинов: «бить ревизионистов хрущёвского толка как перебегающих дорогу крыс», но какое отношение ко всему этому имеет архив Берии, и почему его, как уверяет один из толкователей фильма, так боятся в России, Европе, США и только не боятся в Китае?
* * *
А ещё вот что пришло Евдокимову по этому поводу в голову.
В детстве одними из самых любимых его мультфильмов были «Заколдованный мальчик» и «Снежная королева». Не менее завораживающее впечатление производило качество мультипликации, изящные, тёплые тона, неторопливость действия – каждую деталь, каждый эпизод можно было внимательно рассмотреть. Никакой суеты и мельтешения, никакого искажения в изображении лиц, птиц, животных. И это относилось почти ко всем мультфильмам. Евдокимов мог смотреть их часами. Они создавали в его воображении сказочный мир торжества добра и справедливости.
А ещё ему пришло на память, как однажды они, семиклашки, узнав о технологии мультипликации, загорелись желанием создать свой фильм. И одни занялись рисованием, другие – озвучиванием ролей, а Евдокимов – сочинением музыки.
Их мультфильм был про то, как в очередное зимнее утро возле деревянного здания пожарки с красным ЗИСом их дожидалась запряжённая в сани лошадка и везла в школу. Лошадью правил дядя Тимоша, а выделял её – совхоз. Они полулежали или сидели, свесив ноги, так тесно, что на скатах кто-нибудь обязательно вываливался из саней и, вскочив, пускался вдогонку. Поскальзывался, падал, вставал и бежал опять. Это вызывало общее оживление. Дядя Тимоша на это внимания не обращал. Он был очень серьёзным. И так же серьёзно произносил в конце своё: «Тпр-ру-у!» Они кричали «спасибо» и, размахивая портфелями, бежали в школу.
После уроков, сидя в санях, в виде репетиции, пели.
Будучи отрядным запевалой, Евдокимов начинал:
Я лучший ученик среди ребят,
Пятерки в мой дневник, как ласточки летят.
Теряю счёт, пятёрки круглый год.
И дома уважение, и в школе мне почёт!
Хор на это возражал:
Ха-ха, почёт, совсем наоборот!
Четыре двойки в табеле – хороший счёт!
И когда встал вопрос о том, что будут петь герои их фильма, мнения разделились. Одни говорили, надо то, что на самом деле, другие – тогда будет не интересно, всё-таки это сказка и для неё нужна своя песня. Последнее мнение одержало верх, и тогда они все вместе сочинили слова. Теперь Евдокимов их уже не помнил, но что-то про дядю Тимошу, его малахай, лошадку и Деда Мороза. В задорном припеве были слова: «Ай да дедушка Мороз, у Тимоши красный нос!»
А вообще всё у них тогда было по-домашнему. В школе не особо напирали на лозунги. Шла обычная жизнь, и около неё практически не задевая сознания – лозунги. Во всяком случае, поколение Евдокимова, в отличие от поколения его старшей сестры, не было таким уж идеологизированным. Да и в сестре особенной идеологизации Евдокимов не замечал. Гораздо больше места в памяти о том времени занимали брюки-дудочки да «летка-енька», под которую тогда танцевали на летней танцплощадке их старшие братья и сёстры. О Павлике Морозове, о «судьбе барабанщика» до них дошли только чёрно-белые фильмы, говорящие о навсегда минувшей эпохе. Никакой связи с тем временем Евдокимов не чувствовал, окружающий мир казался светлым, а про барабанщика они пели только весёлые песни:
Встань пораньше,
Встань пораньше,
Встань пораньше,
Только утро замаячит у ворот,
Ты увидишь, ты увидишь,
Как весёлый барабанщик
В руки палочки кленовые берёт.
Это же замечание относилось и к радиопередачам, во время которых, усевшись на диване и поджав под себя ноги, Евдокимов выпадал из действительности. Передачи начинались словами: «Мой маленький друг, здравствуй, это я, сказочник…» Сказки читал Николай Литвинов, и они до сих пор отзывались в душе Евдокимова немой благодарностью.
Как ни крути, а его детство ничего общего с детством китайской пионерки не имело. Ему бы и в голову не пришло в такое играть. Во-первых, что он строил. Из конструктора собирал подъемный кран, железнодорожный переезд с подымающимся шлагбаумом, из кубиков выкладывал пейзажи, животных, рыб. Во-вторых, о чём он мечтал. Разумеется, о далёких мирах («на пыльных тропинках далёких планет останутся наши следы»). И если воевал, то с одними фашистами. И в-третьих, он никогда не задумывался о государственном устройстве.
Наблюдая за жизнью взрослых, у него складывалось такое впечатление, что в телевизоре – одно, а дома и на улице – совершенно другое. Ни мать, ни отец, в отличие от телевизора и плакатов, никогда не говорили о «наших священных принципах, которыми мы не можем поступиться». Их «священными принципами» были уважительные отношения к соседям. Можно было свободно прийти к ним посмотреть телевизор, если сломался свой, или попросить соли, или трёшку до получки. И соседи так же по-свойски обращались за чем-нибудь к ним. Все жили как одна большая семья. В юности, правда, дрались стенка на стенку с парнями из соседнего посёлка, но вовсе не из идеологических, а тем более националистических убеждений, как теперь, а оттого что силы девать было некуда и – от зелёной тоски. И то сказать, такая в выходные и праздничные дни наваливалась на тебя тоска! И это понятно: когда в распоряжении бездна свободного от работы или учёбы времени, которое не знаешь, на что убить, что может быть невыносимее?
Но если ты чем-нибудь увлечён или влюблён!..
Лично Евдокимова от всего этого спасла игра в вокально-инструментальном ансамбле, который был создан при местном клубе, и, разумеется, любовь…
Глава третья
Регистрацию начали за два с половиной часа. Кроме китайцев, в Пекин летела солидная группа соотечественников – человек пятьдесят: то ли туристов, то ли деловых людей, и это придало уверенности, всё-таки не одни, свои, если что, в беде не оставят.
Евдокимов приготовил распечатку электронных билетов, но за стойкой на них даже не глянули, провели развёрнутыми паспортами по считывающему устройству и выдали талоны на посадку.
Далее шли секции пограничного контроля.
И вот они уже в зоне беспошлинной торговли: хочешь, спиртное любых марок мира по дешёвке покупай, хочешь, золото или бриллианты, хочешь, парфюмерию – в общем, всё что хочешь и на что хочешь – рубли, доллары, евро. Рублей у них уже не было, а немного долларов в заначке имелось. Они купили коробку шоколадных конфет и по бутылке армянского коньяка и ирландского ликёра (Женя сказала «очень вкусный», и главное, «чуть ли не в два раза дешевле, чем у нас»).
Оказавшись напротив стеклянной стены, открывшей вид на взлётное поле, Евдокимов понял, почему так быстро двигался список табло: несмотря на изморось, самолёты подымались и садились один за другим. Взлетающие мели за собой облака дождевой пыли.
Когда подали их аэробус, Евдокимов не поверил глазам. Это был внушительных размеров «Боинг», с длинными крыльями, под которыми висело всего по одной очень огромной турбине.
Посадка осуществлялась через рукав прямо из здания аэровокзала. Не надо было, как прежде, садиться в автобус и ехать к трапу самолёта. Таких рукавов было несколько и к ним по очереди подтаскивали лайнеры, соединяя рукава с посадочными дверями.
На входе в салон, на раскладном столике, лежала стопа китайских газет, что-то вроде советской «Правды», и каждый китаец обязательно по одной брал.
Чудо техники поразило и внутри: девять сидений в ряду, пять посередине и по два у иллюминаторов. Евдокимов прикинул примерное количество рядов, умножил и получил приличное количество пассажиров. Места Евдокимовых оказались у иллюминатора, напротив крыла.
Самолёт взяли на буксир и оттащили от здания аэровокзала. Далее предстоял самостоятельный выход на взлётную полосу.
Минут пять выруливали и наконец застыли у стартовой черты.
Когда запустили турбины, Евдокимов подумал, что оглохнет, и почему-то вспомнил, как четверть века назад Юрий Васильевич Бондарев с трибуны Всесоюзной партийной конференции задал вопрос, на который у Евдокимова до сих пор не было ответа.
«Можно ли, – спросил фронтовик, защитник Сталинграда, большой русский писатель, – сравнить нашу перестройку с самолётом, который подняли в воздух, не зная, есть ли в пункте назначения посадочная площадка?»
И словно в подтверждение этих слов в ту самую минуту, как Евдокимов об этом подумал, самолёт сорвался с места и, стремительно набирая скорость, понёсся по мокрой полосе. Капли дождя струйками побежали по стеклу иллюминатора. Аэробус продолжал разгоняться, вздрагивая на стыках. И всё бежал и бежал, пока наконец тяжело, с трудом не оторвался от полосы и не стал медленно набирать высоту – при резком наборе при такой массе, казалось, могли бы обломиться крылья.
Евдокимову приходилось летать прежде, во времена бесшабашной юности, когда ни в одной из советских газет не писали о крушении самолётов, а это означало, что не было и катастроф, и поэтому летать было одно удовольствие. Теперь, когда правда стала доступной и крушения время от времени происходили, полёты перестали доставлять удовольствие, и если бы не крайняя необходимость, Евдокимов ни за что бы не полетел.
О приятности полёта не могло быть и речи, хотя похожие на картинки из киножурналов китайские (поскольку экипаж был китайским) стюардессы попытались его скрасить, сразу после набора высоты начав развозить на тележках соки, воды, вино. Евдокимовы попросили светлого вина. Оно оказалось китайским, ужасно противным, и они его не стали пить. На ужин наобум взяли похожее на конину сильно перчёное мясо, нарезанное дециметровыми квадратиками. Возможно, это был шашлык, усердно жуя который Евдокимов так и проглотил его недожеванным – не до конца же полёта жевать?
Разница во времени была в пять часов, а лететь предстояло семь с половиной, таким образом, в семь тридцать по местному времени должны были приземлиться в Пекине.
– У них сорок два градуса, па, представляешь!
Сорок два Евдокимов, разумеется, представить не мог.
После того как пробились через дождевые облака, открылось идеальной голубизны небо. И по крылу самолёта, если бы не болтался элерон, невозможно было определить, что летят. Поскольку двигались навстречу солнцу, стемнело быстро. Всё было ничего – и вдруг наступила ночь.
После ужина дочь немного поболтала, повозилась и, опустив шторку, заснула.
Евдокимов же уснуть, даже чуть-чуть вздремнуть так и не смог. Он или забыл, или просто не обращал прежде внимания, что в какие-то периоды самолёт начинает трясти: летит, летит и вдруг задрожит всем корпусом. И тогда принимался молиться. А молельщик из него ещё тот! Как в поговорке: гром не грянет, мужик не перекрестится. Однако и навернуться с такой высоты в его планы не входило (можно подумать, в чьи-то планы это входит!). А вообще такой зависимости от висения в районе стратосферы буквально на волоске Евдокимов не испытывал никогда, ну и чего-то лепетал.
25 декабря 1991 года, после подписания Беловежских соглашений, Горбачёв сложил с себя полномочия президента СССР.
Это послужило поводом к вооружению старых игрушек (старой гвардии). Берия в общем строю. Воскресший Феликс (неужели Путин?) протягивает девочке пластиковый шарик с приказом, и верная «священным принципам» пионерка его отдаёт. В результате последнего и решающего сражения государство восстанавливается на прежних основаниях.
И вроде бы, думал Евдокимов, всё понятно, если к тому же вспомнить главный лозунг хунвэйбинов: «бить ревизионистов хрущёвского толка как перебегающих дорогу крыс», но какое отношение ко всему этому имеет архив Берии, и почему его, как уверяет один из толкователей фильма, так боятся в России, Европе, США и только не боятся в Китае?
* * *
А ещё вот что пришло Евдокимову по этому поводу в голову.
В детстве одними из самых любимых его мультфильмов были «Заколдованный мальчик» и «Снежная королева». Не менее завораживающее впечатление производило качество мультипликации, изящные, тёплые тона, неторопливость действия – каждую деталь, каждый эпизод можно было внимательно рассмотреть. Никакой суеты и мельтешения, никакого искажения в изображении лиц, птиц, животных. И это относилось почти ко всем мультфильмам. Евдокимов мог смотреть их часами. Они создавали в его воображении сказочный мир торжества добра и справедливости.
А ещё ему пришло на память, как однажды они, семиклашки, узнав о технологии мультипликации, загорелись желанием создать свой фильм. И одни занялись рисованием, другие – озвучиванием ролей, а Евдокимов – сочинением музыки.
Их мультфильм был про то, как в очередное зимнее утро возле деревянного здания пожарки с красным ЗИСом их дожидалась запряжённая в сани лошадка и везла в школу. Лошадью правил дядя Тимоша, а выделял её – совхоз. Они полулежали или сидели, свесив ноги, так тесно, что на скатах кто-нибудь обязательно вываливался из саней и, вскочив, пускался вдогонку. Поскальзывался, падал, вставал и бежал опять. Это вызывало общее оживление. Дядя Тимоша на это внимания не обращал. Он был очень серьёзным. И так же серьёзно произносил в конце своё: «Тпр-ру-у!» Они кричали «спасибо» и, размахивая портфелями, бежали в школу.
После уроков, сидя в санях, в виде репетиции, пели.
Будучи отрядным запевалой, Евдокимов начинал:
Я лучший ученик среди ребят,
Пятерки в мой дневник, как ласточки летят.
Теряю счёт, пятёрки круглый год.
И дома уважение, и в школе мне почёт!
Хор на это возражал:
Ха-ха, почёт, совсем наоборот!
Четыре двойки в табеле – хороший счёт!
И когда встал вопрос о том, что будут петь герои их фильма, мнения разделились. Одни говорили, надо то, что на самом деле, другие – тогда будет не интересно, всё-таки это сказка и для неё нужна своя песня. Последнее мнение одержало верх, и тогда они все вместе сочинили слова. Теперь Евдокимов их уже не помнил, но что-то про дядю Тимошу, его малахай, лошадку и Деда Мороза. В задорном припеве были слова: «Ай да дедушка Мороз, у Тимоши красный нос!»
А вообще всё у них тогда было по-домашнему. В школе не особо напирали на лозунги. Шла обычная жизнь, и около неё практически не задевая сознания – лозунги. Во всяком случае, поколение Евдокимова, в отличие от поколения его старшей сестры, не было таким уж идеологизированным. Да и в сестре особенной идеологизации Евдокимов не замечал. Гораздо больше места в памяти о том времени занимали брюки-дудочки да «летка-енька», под которую тогда танцевали на летней танцплощадке их старшие братья и сёстры. О Павлике Морозове, о «судьбе барабанщика» до них дошли только чёрно-белые фильмы, говорящие о навсегда минувшей эпохе. Никакой связи с тем временем Евдокимов не чувствовал, окружающий мир казался светлым, а про барабанщика они пели только весёлые песни:
Встань пораньше,
Встань пораньше,
Встань пораньше,
Только утро замаячит у ворот,
Ты увидишь, ты увидишь,
Как весёлый барабанщик
В руки палочки кленовые берёт.
Это же замечание относилось и к радиопередачам, во время которых, усевшись на диване и поджав под себя ноги, Евдокимов выпадал из действительности. Передачи начинались словами: «Мой маленький друг, здравствуй, это я, сказочник…» Сказки читал Николай Литвинов, и они до сих пор отзывались в душе Евдокимова немой благодарностью.
Как ни крути, а его детство ничего общего с детством китайской пионерки не имело. Ему бы и в голову не пришло в такое играть. Во-первых, что он строил. Из конструктора собирал подъемный кран, железнодорожный переезд с подымающимся шлагбаумом, из кубиков выкладывал пейзажи, животных, рыб. Во-вторых, о чём он мечтал. Разумеется, о далёких мирах («на пыльных тропинках далёких планет останутся наши следы»). И если воевал, то с одними фашистами. И в-третьих, он никогда не задумывался о государственном устройстве.
Наблюдая за жизнью взрослых, у него складывалось такое впечатление, что в телевизоре – одно, а дома и на улице – совершенно другое. Ни мать, ни отец, в отличие от телевизора и плакатов, никогда не говорили о «наших священных принципах, которыми мы не можем поступиться». Их «священными принципами» были уважительные отношения к соседям. Можно было свободно прийти к ним посмотреть телевизор, если сломался свой, или попросить соли, или трёшку до получки. И соседи так же по-свойски обращались за чем-нибудь к ним. Все жили как одна большая семья. В юности, правда, дрались стенка на стенку с парнями из соседнего посёлка, но вовсе не из идеологических, а тем более националистических убеждений, как теперь, а оттого что силы девать было некуда и – от зелёной тоски. И то сказать, такая в выходные и праздничные дни наваливалась на тебя тоска! И это понятно: когда в распоряжении бездна свободного от работы или учёбы времени, которое не знаешь, на что убить, что может быть невыносимее?
Но если ты чем-нибудь увлечён или влюблён!..
Лично Евдокимова от всего этого спасла игра в вокально-инструментальном ансамбле, который был создан при местном клубе, и, разумеется, любовь…
Глава третья
Регистрацию начали за два с половиной часа. Кроме китайцев, в Пекин летела солидная группа соотечественников – человек пятьдесят: то ли туристов, то ли деловых людей, и это придало уверенности, всё-таки не одни, свои, если что, в беде не оставят.
Евдокимов приготовил распечатку электронных билетов, но за стойкой на них даже не глянули, провели развёрнутыми паспортами по считывающему устройству и выдали талоны на посадку.
Далее шли секции пограничного контроля.
И вот они уже в зоне беспошлинной торговли: хочешь, спиртное любых марок мира по дешёвке покупай, хочешь, золото или бриллианты, хочешь, парфюмерию – в общем, всё что хочешь и на что хочешь – рубли, доллары, евро. Рублей у них уже не было, а немного долларов в заначке имелось. Они купили коробку шоколадных конфет и по бутылке армянского коньяка и ирландского ликёра (Женя сказала «очень вкусный», и главное, «чуть ли не в два раза дешевле, чем у нас»).
Оказавшись напротив стеклянной стены, открывшей вид на взлётное поле, Евдокимов понял, почему так быстро двигался список табло: несмотря на изморось, самолёты подымались и садились один за другим. Взлетающие мели за собой облака дождевой пыли.
Когда подали их аэробус, Евдокимов не поверил глазам. Это был внушительных размеров «Боинг», с длинными крыльями, под которыми висело всего по одной очень огромной турбине.
Посадка осуществлялась через рукав прямо из здания аэровокзала. Не надо было, как прежде, садиться в автобус и ехать к трапу самолёта. Таких рукавов было несколько и к ним по очереди подтаскивали лайнеры, соединяя рукава с посадочными дверями.
На входе в салон, на раскладном столике, лежала стопа китайских газет, что-то вроде советской «Правды», и каждый китаец обязательно по одной брал.
Чудо техники поразило и внутри: девять сидений в ряду, пять посередине и по два у иллюминаторов. Евдокимов прикинул примерное количество рядов, умножил и получил приличное количество пассажиров. Места Евдокимовых оказались у иллюминатора, напротив крыла.
Самолёт взяли на буксир и оттащили от здания аэровокзала. Далее предстоял самостоятельный выход на взлётную полосу.
Минут пять выруливали и наконец застыли у стартовой черты.
Когда запустили турбины, Евдокимов подумал, что оглохнет, и почему-то вспомнил, как четверть века назад Юрий Васильевич Бондарев с трибуны Всесоюзной партийной конференции задал вопрос, на который у Евдокимова до сих пор не было ответа.
«Можно ли, – спросил фронтовик, защитник Сталинграда, большой русский писатель, – сравнить нашу перестройку с самолётом, который подняли в воздух, не зная, есть ли в пункте назначения посадочная площадка?»
И словно в подтверждение этих слов в ту самую минуту, как Евдокимов об этом подумал, самолёт сорвался с места и, стремительно набирая скорость, понёсся по мокрой полосе. Капли дождя струйками побежали по стеклу иллюминатора. Аэробус продолжал разгоняться, вздрагивая на стыках. И всё бежал и бежал, пока наконец тяжело, с трудом не оторвался от полосы и не стал медленно набирать высоту – при резком наборе при такой массе, казалось, могли бы обломиться крылья.
Евдокимову приходилось летать прежде, во времена бесшабашной юности, когда ни в одной из советских газет не писали о крушении самолётов, а это означало, что не было и катастроф, и поэтому летать было одно удовольствие. Теперь, когда правда стала доступной и крушения время от времени происходили, полёты перестали доставлять удовольствие, и если бы не крайняя необходимость, Евдокимов ни за что бы не полетел.
О приятности полёта не могло быть и речи, хотя похожие на картинки из киножурналов китайские (поскольку экипаж был китайским) стюардессы попытались его скрасить, сразу после набора высоты начав развозить на тележках соки, воды, вино. Евдокимовы попросили светлого вина. Оно оказалось китайским, ужасно противным, и они его не стали пить. На ужин наобум взяли похожее на конину сильно перчёное мясо, нарезанное дециметровыми квадратиками. Возможно, это был шашлык, усердно жуя который Евдокимов так и проглотил его недожеванным – не до конца же полёта жевать?
Разница во времени была в пять часов, а лететь предстояло семь с половиной, таким образом, в семь тридцать по местному времени должны были приземлиться в Пекине.
– У них сорок два градуса, па, представляешь!
Сорок два Евдокимов, разумеется, представить не мог.
После того как пробились через дождевые облака, открылось идеальной голубизны небо. И по крылу самолёта, если бы не болтался элерон, невозможно было определить, что летят. Поскольку двигались навстречу солнцу, стемнело быстро. Всё было ничего – и вдруг наступила ночь.
После ужина дочь немного поболтала, повозилась и, опустив шторку, заснула.
Евдокимов же уснуть, даже чуть-чуть вздремнуть так и не смог. Он или забыл, или просто не обращал прежде внимания, что в какие-то периоды самолёт начинает трясти: летит, летит и вдруг задрожит всем корпусом. И тогда принимался молиться. А молельщик из него ещё тот! Как в поговорке: гром не грянет, мужик не перекрестится. Однако и навернуться с такой высоты в его планы не входило (можно подумать, в чьи-то планы это входит!). А вообще такой зависимости от висения в районе стратосферы буквально на волоске Евдокимов не испытывал никогда, ну и чего-то лепетал.