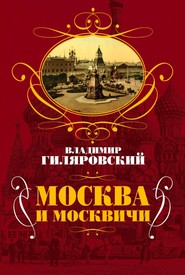По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рассказы и очерки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, Суслик, слушай! Твоих сказок да бывальщин я наслушался, теперь мои за это послушай.
– Гляжу вот и в толк не возьму… Память отшибло.
– Ну так слушай, и память вернется! В Ярославле через два года после холеры на белильном заводе Сорокина ты кубовщиком был?
В первый раз я увидал, что глаза у него засияли каким-то добрым блеском.
– У Сорокина? Ну как же! Был.
– Ну и я там был, вместе кубики резали.
– Вот провалиться, не узнаю!
– Да и узнать трудно после опорков в этой шкуре.
– Чудесам подобно!
– А помнишь, кто больному Иванычу кубики помогал резать? Ты ведь от нас через два стола работал. А помнишь, когда на него с ножом бросился Сашка, кто спас старика?
Воззрился на меня Суслик:
– Чудесам подобно! Таперча узнал!
Он снял с колен картуз с хлебом и воблой, положил его на землю, встал и поклонился мне, согнув до половины свою широкую спину и касаясь правой рукой земли, и опять сел.
– Так, стало-ть, первым делом получи от Иваныча земной поклон по его завету. Уж как он тебя, умираючи, поминал! И велел он мне, ежели когда тебя разыщу, передать тебе его грешное благословение и поклон до сырой земли. Много он говорил о тебе со мной. Говорил, что ты из ходовых ходовой и что ты неспроста на заводе околачивался. Вспоминал он, как ты Пашку вроде кутенка паршивого шваркнул.
– Сашку?
– Пашку, а не Сашку! Кому Сашка, а нам Пашка… Диву старик дался. Пашку вся каторга боялась, а ты, на-ко, как кутенка!
Заходила бровь у старика, глаза смеются.
– Вот теперь тебя узнал… Ухватка все та же. Я видел, как ты через перила сходни пересигнул… как зверь. Недаром старик о тебе говорил… Ну да уж…
Он сунул в рот кусок воблы и стал жевать.
– Что сказал он?
– Ну да что уж. Кажись, тебя Лексеем звали? В остроге он таких видывал. Из господских детей там двое были… Ученые… Супротив царя шли и народ бунтовать хотели… После Пашки разговор был.
– Там звали Алексеем, а тебя – Сусликом.
– Да я ведь к слову. Я ведь не пытаю, как теперь тебя кличут. Ведь что было – все сплыло… Вот и ты меня Сусликом спомянул – на том и стал. Кому надо, сам скажет. А молчит, так тому и быть, стало-ть, так надо.
– Спрашивай, все-все по чистой правде отвечу, мне скрывать нечего теперь.
– И кто и что, и где и как – зовут, мол, зовуткой, а величают уткой. Одно тебя спрошу и дальше – во, запечатано. – И положил на губы четыре пальца. – Запечатано. Только одно спрошу… Я тебе тоже послужить готов, хошь мне и под семьдесят, а я еще по полсотни верст в сутки бегаю… Бери меня – не раскаешься.
– Не понимаю что-то…
– Да я только одно это слово и хотел спросить, а там запечатано… – И опять четыре пальца на губы.
– Спрашивай, что хошь.
– Ну, скажи прямо: атаманишь где?
– Забирай выше. Это мелко. Какие теперь атаманы? Где станицу наберешь?.. Да атаманов больше, после Репки, не будет.
– Ре-епки?
И обе брови заходили, и глаза засверкали.
– Ну да! Я уж после узнал, что Иваныч-то, твой друг, Репка и был.
– Чудесам подобно!
Он схватился обеими руками за волосы, закрыл глаза и замотал головой.
– Ну да. Когда я с завода ушел, встретил на пристани в Ярославле одного, с которым в холерный год в лямке до Рыбны шел, бурлачка, он и сказал мне по старой дружбе. Костыча сказал!
– И Федотку Костыча знаешь! Шабры мы с ним были… Из-под Банновки…
– Костыча… Улан… Петля… Балабурда, – начал я перечислять общих знакомых. После каждого имени он только свое все:
– Чудовина! Чудесам подобно… Ну теперь, кто ты ни на есть, – бери меня голыми руками. Я весь с потрохами твой!
– Ну вот что, Суслик, чем на солнышке печься, пойдем на пристань в казенку чай пить.
– Да меня не пустят!
– Со мной пойдем – вот и ключ от нее.
– Ладно, пойдем, куда хошь, – после Репки теперь ты мой атаман.
Старик завернул остатки воблы и хлеба в тряпицу, сунул за пазуху, вынул берестяную тавлинку, потянул за ременный хвостик, открыл крышку, смачно понюхал и снова закрыл.
– Чего же меня не потчуешь?
– Табачишко-то плох, подмочен!
Опять открыл табакерку, пригласительно хлопнул два раза и подсунул мне.
– Да, суховат малость и с гнильцой. Ну уж я тебя своим пугну.
Вынул мою неразлучную маленькую табакерку, тоже стукнул два раза по крышке, что на языке старых нюхальщиков означает: «подходи, кто хочет».
– Серебряная никак? Поди, целковых пять стоит, – любовался он на мою табакерку.
– Гляжу вот и в толк не возьму… Память отшибло.
– Ну так слушай, и память вернется! В Ярославле через два года после холеры на белильном заводе Сорокина ты кубовщиком был?
В первый раз я увидал, что глаза у него засияли каким-то добрым блеском.
– У Сорокина? Ну как же! Был.
– Ну и я там был, вместе кубики резали.
– Вот провалиться, не узнаю!
– Да и узнать трудно после опорков в этой шкуре.
– Чудесам подобно!
– А помнишь, кто больному Иванычу кубики помогал резать? Ты ведь от нас через два стола работал. А помнишь, когда на него с ножом бросился Сашка, кто спас старика?
Воззрился на меня Суслик:
– Чудесам подобно! Таперча узнал!
Он снял с колен картуз с хлебом и воблой, положил его на землю, встал и поклонился мне, согнув до половины свою широкую спину и касаясь правой рукой земли, и опять сел.
– Так, стало-ть, первым делом получи от Иваныча земной поклон по его завету. Уж как он тебя, умираючи, поминал! И велел он мне, ежели когда тебя разыщу, передать тебе его грешное благословение и поклон до сырой земли. Много он говорил о тебе со мной. Говорил, что ты из ходовых ходовой и что ты неспроста на заводе околачивался. Вспоминал он, как ты Пашку вроде кутенка паршивого шваркнул.
– Сашку?
– Пашку, а не Сашку! Кому Сашка, а нам Пашка… Диву старик дался. Пашку вся каторга боялась, а ты, на-ко, как кутенка!
Заходила бровь у старика, глаза смеются.
– Вот теперь тебя узнал… Ухватка все та же. Я видел, как ты через перила сходни пересигнул… как зверь. Недаром старик о тебе говорил… Ну да уж…
Он сунул в рот кусок воблы и стал жевать.
– Что сказал он?
– Ну да что уж. Кажись, тебя Лексеем звали? В остроге он таких видывал. Из господских детей там двое были… Ученые… Супротив царя шли и народ бунтовать хотели… После Пашки разговор был.
– Там звали Алексеем, а тебя – Сусликом.
– Да я ведь к слову. Я ведь не пытаю, как теперь тебя кличут. Ведь что было – все сплыло… Вот и ты меня Сусликом спомянул – на том и стал. Кому надо, сам скажет. А молчит, так тому и быть, стало-ть, так надо.
– Спрашивай, все-все по чистой правде отвечу, мне скрывать нечего теперь.
– И кто и что, и где и как – зовут, мол, зовуткой, а величают уткой. Одно тебя спрошу и дальше – во, запечатано. – И положил на губы четыре пальца. – Запечатано. Только одно спрошу… Я тебе тоже послужить готов, хошь мне и под семьдесят, а я еще по полсотни верст в сутки бегаю… Бери меня – не раскаешься.
– Не понимаю что-то…
– Да я только одно это слово и хотел спросить, а там запечатано… – И опять четыре пальца на губы.
– Спрашивай, что хошь.
– Ну, скажи прямо: атаманишь где?
– Забирай выше. Это мелко. Какие теперь атаманы? Где станицу наберешь?.. Да атаманов больше, после Репки, не будет.
– Ре-епки?
И обе брови заходили, и глаза засверкали.
– Ну да! Я уж после узнал, что Иваныч-то, твой друг, Репка и был.
– Чудесам подобно!
Он схватился обеими руками за волосы, закрыл глаза и замотал головой.
– Ну да. Когда я с завода ушел, встретил на пристани в Ярославле одного, с которым в холерный год в лямке до Рыбны шел, бурлачка, он и сказал мне по старой дружбе. Костыча сказал!
– И Федотку Костыча знаешь! Шабры мы с ним были… Из-под Банновки…
– Костыча… Улан… Петля… Балабурда, – начал я перечислять общих знакомых. После каждого имени он только свое все:
– Чудовина! Чудесам подобно… Ну теперь, кто ты ни на есть, – бери меня голыми руками. Я весь с потрохами твой!
– Ну вот что, Суслик, чем на солнышке печься, пойдем на пристань в казенку чай пить.
– Да меня не пустят!
– Со мной пойдем – вот и ключ от нее.
– Ладно, пойдем, куда хошь, – после Репки теперь ты мой атаман.
Старик завернул остатки воблы и хлеба в тряпицу, сунул за пазуху, вынул берестяную тавлинку, потянул за ременный хвостик, открыл крышку, смачно понюхал и снова закрыл.
– Чего же меня не потчуешь?
– Табачишко-то плох, подмочен!
Опять открыл табакерку, пригласительно хлопнул два раза и подсунул мне.
– Да, суховат малость и с гнильцой. Ну уж я тебя своим пугну.
Вынул мою неразлучную маленькую табакерку, тоже стукнул два раза по крышке, что на языке старых нюхальщиков означает: «подходи, кто хочет».
– Серебряная никак? Поди, целковых пять стоит, – любовался он на мою табакерку.