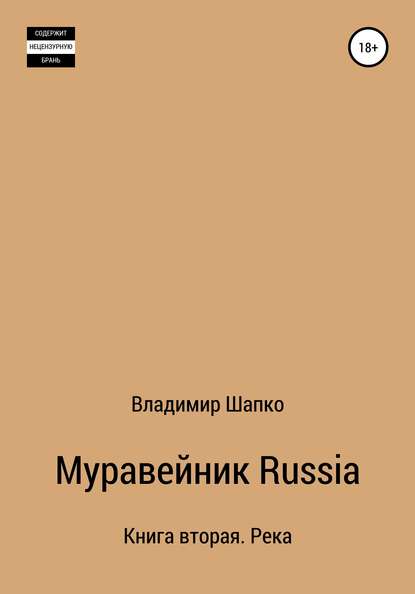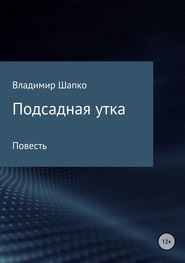По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Муравейник Russia Книга вторая. Река
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Глубинно, как утренний ишак своим голосом, овладевал голосом скрипки скрипач. Арпеджиатто давал, арпеджиатто. Ходил, гнулся. Новосёлов стоял и думал примерно так: зачем звонить, зачем приходить сюда, когда вроде бы – всё, когда отрезано? За Новосёловым наблюдала из гардероба полная старуха в расшитой куртке. Машинально кивнула какой-то студентке, разрешая зайти, повесить самой. Как мухе отмахнула скрипачу, который сразу умолк и тоже уставился на Новосёлова. Хорошо поставленным голосом старуха спросила у Новосёлова, что ему нужно («ма-аладой человек!», пропела она), зачем он тут стоит, для чего явился. Новосёлов подошёл, назвал фамилию, имя, кого ждёт…
– С четвёртого курса?.. – экзаменовала старуха. – Не было её ещё. Ещё не приходила.
Новосёлову вроде бы разрешили остаться. Скрипач тоже возобновил своё арпеджиатто.
– Да замолчишь ты, а? Уйдёшь ты отсюда, а?..
Растрёпанный парень пошёл куда-то, продолжая давать октавы. Октавных своих ишаков. А Новосёлов остался стоять в противоречии: ждать или уйти? Но старуха уже облокотилась на стойку. В ожидании Встречи Девушки И Молодого Человека. Оживившись, поглядывала. То на Новосёлова, то на входную дверь. Откуда должна появиться Девушка. Для Встречи С Молодым Человеком. Стала полностью причастной всему. И уходить Новосёлову из вестибюля было бы уже… полнейшим свинством.
В вестибюль ворвался вконец осмуревший студент. Швырнул куда-то мимо старухи пальто и шапку. Кружил на месте, явно забыв направление, не зная куда бежать. Дико схватил сокурсника ростом чуть выше тромбона:
– Где препы?!
– Препы в репах! – честно прокричал сокурсник, удерживая под мышкой большую папку. С разъехавшимися нотами.
– Кто сказал?!
– Ленка-сольный!! (Сольный концерт, что ли?)
И перепуганные, заторопились, побежали оба, выпуская, подхватывая, собирая с пола нотные листы, точно лебедей.
Улыбающийся Новосёлов ничего не понял из слов парней. Требовался толмач. И старуха ответственно взялась перевести с птичьего:
– Это преподавателей они так называют… «Препы»…
– А «репы»?
– А это они – репетитории…
– Так. Значит: препы в репах… Сидят… Понятно… – Новосёлов уже отворачивался, закидывал голову. – Ленка-сольный сказала… – Не выдержал, захохотал.
Старуха вздрогнула. Красным, индюшачьим переполнилась шипом: тишшшшее! Здесь нельзяяяя! (Что нельзя?) Словно выдохнув всю красноту свою, послушала себя. Для успокоения широко и очень нежно опустила попу на стул. Расшитая вся и позолоченная как вельможа. Со столика взяла в пухлую руку остывающий стакан чаю. Осторожно отпила. Подержала во рту. Определяя, не опасно ли будет для слизистой желудка данная температура чая. С достоинством проглотила. Ещё – и опять проглотила, прослушивая процесс прохождения жидкости (чая) по пищеводу…
– Здесь нельзя… шуметь… Играть можно. Шуметь – нельзя. Да… – подтвердила самой себе ещё раз.
Скрипача отогнали от какой-то двери. Он пошёл, всё так же глубинно осваивая звук, октавя, куда-то дальше. Но и оттуда шуганули. Тогда вышел к старухе. Растерянный, со скрипкой и смычком…
– Домой иди, домой. В общагу свою, – пожалела его старуха. А он, как и Новосёлов, был в раздвоенности: уйти ли? продолжить ли борьбу?
Тут откуда-то появился старикашка в сером мешковатом костюме. Отчего-то злой, неостывающий, весь в себе. Скрипач мгновенно испарился. Ни слова не говоря, старикашка зашёл в гардероб и растаращенно встал. В позу пловца. Изготовившегося прыгнуть с тумбы. Старуха поспешно выхватила его доху – насадила. Слегка старикашку подкинув. С почтением подала шапку-пирожок. Старикашка, проверяя себя, походил. Опустил белую монету в ужавшуюся ладонь. Понёс на выход доху свою как воронье гнездо. Остро выглядывал из неё на встречных. «Сам…» – показала глазами на потолок старуха. Кто он, этот «сам» – Новосёлов не стал узнавать. Нужно было уходить самому. Пора было уходить. Вот прямо за стариком и двигать. Но опять чувствовал себя несколько повязанным, что ли. Вовлечённым в действо. Как в кинотеатре во время сеанса. Нужно вылезать на выход, надоело, а как? Как сделать так, чтобы не показать неучтивость. Неучтивость не только к людям, к зрителям, оттаптывая им ноги, получая тумаки, но и к фильму, который они смотрят с таким увлечением, к идее, так сказать, его, к фабуле… А старуха всё поглядывала (главная зрительница), облокотясь на барьер. Ожидая от него, Новосёлова, как бы продолжения фильма.
Потоптавшись, сказал вслух, что нужно, пожалуй, позвонить ещё раз. Краем глаза видел, что старуха разрешающе покивала. Она обождёт, она согласна обождать. Отошёл к телефону.
И опять всплывали к уху гудки. И опять, отсекая расстояние – как на колени упал голос: «Да… Слушаю…» – «Николетта Анатольевна, это Новосёлов вас беспокоит. Здравствуйте. Можно Олю? Дома она?» Голос женщины сразу вспомнил голос дочери, стал с ним быстро объединяться, – неуклюже заиграл: «А-а! Это вы Са-аша! Куда же вы пропа-али! Вы не звонили и не приходили почти месяц! Как вам не сты–ыдно! А Оля только утром… Вы откуда звоните?» Новосёлов сказал. «А она в Ленинке, в Ленинке! В читальном зале! Вот ведь досада… Может быть, вы туда заедете? Или прямо к нам? Она скоро придёт? А?» Новосёлов сказал, что не сможет. Сегодня не сможет. По делу надо. В консерваторию зашёл вот просто по пути… Чувствуя, что он сейчас повесит трубку, оторвется, уйдёт, женщина заторопилась, заговорила без остановки. О чём? О чём угодно! О том, что Оля была вчера в Малом зале на Сковронском. А вы почему пропустили такой концерт? Непростительно! Непростительно! И не буду слушать ваших отговорок! О том, к примеру, что тоже вчера – какое совпадение! – приходил дядя Жора. Вы не забыли его? Наш милый обед вчетвером 14-го января? Только о вас и расспрашивал, только о вас! Где Саша? Почему не вижу Саши? Не стал ли он уже начальником автоколонны? Не правда ли, – милый. О том, к примеру, что не вчера, а позавчера…
На стене одиноким зябликом мёрз Шостакович. Глаза бородатого Мясковского рядом – были как молоки. Прошло и пять минут и, наверное, десять. Женщина говорила, смеялась. Новосёлов в неуверенности отводил трубку от уха, словно вытягивал из него этот гирляндовый тилюлюкающий голос. Чтобы навесить его на крючок, малодушно бросить. Но снова запускал в ухо. Наконец сказал: «Извините, Николетта Анатольевна… Мне нужно идти…» В трубке разом всё оборвалось. Женщина помолчала. «До свидания, Саша», – отдалённо прозвучал усталый голос. Новосёлов поспешно простился. Чувствуя далёкую неотключающуюся тишину, судорожно лязгал трубкой, никак не попадая петлёй на крючок… Придавил, наконец, всё.
Было нестерпимо стыдно. Гаденько на душе. Не понимал, не видел ни старухи за барьером, ни встречных людей, натыкался на них. Вышел за дверь. Зимний синюшный день придавил его.
9. Оказанное большое доверие
Прошлой осенью, где-то в октябре Александр Новосёлов был неожиданно вызван к Манаичеву. Позвонили в Измайлово и сняли прямо с панелевоза, едва только приехал первым рейсом на стройку. На «Волге», как барина, повезли в Управление.
В своем большом кабинете Манаичев хмуро ждал, пока секретарша польет из чайничка цветок. Цветок на цепочках висел рядом с портретом человека с бровями. На стене. В виде большого, завядшего кадила. Новосёлов сидел с краю стола. Вызванные остальные тоже смотрели. Наконец секретарша стряхнула последнюю капельку. С корректной челюстью собаки – пошла к двери. Манаичев откашлялся, заговорил. Повёл речь о делах в общежитии. О бардачной общежитской хозяйственной службе, понимаешь. Сколько можно говорить о тараканах, о клопах! Ведь жрут грудных детей! Сколько могут ко мне ходить люди! Жаловаться! Где директор общежития? Не вижу. Где завхоз? Не вижу. Манаичев засопел, надулся в передышке. Силкину он недолюбливал. Райкомовская выскочка. Погорела там на чём-то. Сунули сюда. Директором общежития. Другое дело – Новосёлов. Александр. Парень свой. От сохи, так сказать. От руля. Председатель Совета общежития. Навел в общежитии порядок. С пьянками во всяком случает. Опять же дружина на нём. ДНД. Одни благодарности. Вот с кого нужно брать пример, понимаешь! Шло постоянное противопоставление. Одного – другой. И здесь – в кабинете – за этим столом. Толкового парня – фитюльке, не знающей ничего, кроме своих лозунгов. Понимаешь. Силкина сидела злая. Солдафон. Тупица. Мало тебя драли на пленумах. В райкомах. Свинопас. Карандаш стучал по столу, как поломанный метроном. Щёчки отрясывались пудрой. Новосёлов был равнодушен, молчал, смотрел в никуда. Остальные двое (Нырова и Дранишникова) синхронно, как рыбы, поворачивались то в одну сторону, то в другую. Внимательно следили за течением…
После накачки, когда все выходили из кабинета, Новосёлову было сказано, чтобы остался. Силкина же прошла мимо него, делая глазами страшно. Враг! Враг! Навеки враг! Так прошла бы, сверкающая закоротившаяся электростанция, по меньшей мере!
Манаичев выбрался из-за стола. Подошёл. Кубастый, пожилой, плешивый. С головой, похожей на плохо свалянный валенок. Пим. Взялся за локоть шофёра, сам таращась в сторону. Таращась на политый секретаршей подвешенный цветок. Точно ожидал от него помощи. Кадения. Предстояло, понимаешь, проявить сердечность. Человеческое как бы. Трудно это, тяжело. «Я слышал, ты жениться собрался, Новосёлов… – Начальник всё держался за высокий локоть шофёра. Как вынужден держаться младший братишка за старшего. Новосёлов не знал, что сказать. Ему и не дали: – Правильно. Одобряю. После Олимпиады сразу квартиру получишь. Моя тебе поддержка». Новосёлов сказал, что есть более нуждающиеся. С семьями кто. Серов, например. Двое детей. Седьмой год в общежитии. Жена тоже у нас работает. Штукатуром…
– Серов пьяница. Алкоголик. – Локоть шофёра был брошен. – Сдадим Олимпиаду – выгоним из Москвы… Вместе с такими же… Домой поедет… Нашёл друга…
Новосёлов молчал…
…«Балуете вы Новосёлова, балуете, Петр Романович! – как всегда с улыбочками говорил парторг Тамиловский. – А он уже права качает. И в общежитии на собраниях, и в автоколонне своей. Всё за лимиту свою заступается. Начал высовываться. Активно высовываться. А вы – ему – квартиру… Смешно!»
«Узнал уже. Донесли…»
Манаичев стоял на крыльце, готовый спуститься к работающей внизу «Волге». Одет он был с той необязательностью, с той бесполезностью приземистых кубастых людей, на которых что ни одень, всё будет широко, квадратно. И вдобавок горшком. Взять шляпчонку его или тот же габардиновый плащ. В котором он, казалось, родился. В котором он, как казалось Тамиловскому, сосал грудь матери!.. Начальник скосил лицо к безмерно радующемуся парторгу.
– Если гвоздь высовывается – что с ним делают?
– Хм.
– Его круто загибают – и молотком гонят в обратную сторону. Понял?
– Ха-ха-ха! Скажете тоже…
– Не я это сказал. Один умный человек. Но – только так!
Когда управляющий спускался по лестнице, Тамиловский ему смеялся. Зубасто. Как гармоника. Потом оставшиеся глаза сорокапятилетнего мужчины словно искали что-то возле себя. Прозревали как луноходы.
После Манаичева Новосёлов ждал Серова в проходной автоколонны. Сам не зная зачем. Из упрямства, наверное. Словно хотел что-то кому-то доказать. (Силкиной? Манаичеву?)
В остеклённой будке сосал, обдумывал очередную таблетку старик-вахтёр. Усы его пошевеливались, будто цанги. «Здорово, Петрович!» – говорили ему, точно спрашивая: жив? Старикан делал рукой вялый хайль: жив. Словно облезлая грудь чемпиона, так и не добравшего наград, висела никому не нужная доска с несколькими бирками. Да. Старикан шевелил усами, всё пережёвывал таблетку. «Пока, Петрович!» – говорили ему… Окликали: – Эй!..» – Пока, отвечала вялая рука со спинки стула. Сказал Новосёлову: – «Зря ждёшь. Не придёт Серов сегодня».
Новосёлов упрямо ходил взад-вперёд по цементно-бетонному помещению с тюремной лампочкой-мошонкой, тлеющей под потолком. Достав папиросы, вышел на улицу. Курил. Появился и Петрович. Подышать маленько. Пряным октябрьским воздухом. Подвздошный и растаращенный, как лесной мизгирь, принимался ходить и со спины, сверху, пальцами оглаживать родной свой радикулит. «Вчера же аванс был. Ты что, не получал, что ли, Александр, его? – Александр получал. Зло затягивался. – А вот это ты зря, – останавливали хождение и укоряли Александра. – Куришь-то… Я вот уже лет пять как бросил. Видишь, какой я теперь?» – Александр видел. Локти на присогнутом мизгире были задраны выше головы.
Смотрели вместе через дорогу на осенний сквер. Откуда-то появились подвыпившие парни и девицы. Везлись к входу. Человек шесть-семь. Хохотали, вихлялись, выламывались. Парни вставали козлами и прыгали друг через друга. Одна девица кидалась за ними. Наконец заскочила на одного из них и повалилась, охватив руками. Медная нога её повезлась, прыгая на парне как мортира. Прохожие возмущённо шарахались. Петрович всё смотрел. «Ничего-о. Жизнь заест. Зае-ест. Никуда не денутся. Ручками только будут пошевеливать из её пасти. А сейчас – пу-усть…» В сквере компашка вдали свернула в боковую аллею, обсаженную тополями. Дикие голоса пролезали где-то там понизу. Девки визжали, вскрикивали.
Тополя недвижно стояли. С тополей свисали кладбища жёлтых птиц.
10. Дырявенький кинематограф
Когда они пробирались на свои места (к новосёловской всегдашней верхотуре), толстая певица на сцене уже пела. Уже бычила голос в итальянской, прямо-таки кровожадной арии. Беря ноты «с мясом». Выкатывая глаза перед собой астрально, жутко. Для Серова всё это было внове, лез, оборачивался, наблюдал с любопытством. Похлопал даже со всеми, уже упав на место. Новосёлов и Ольга ужасно радовались, аплодировали. Точно щекотали его, Серова, аплодисментами с двух сторон. Однако – меломаны!
Квартира коммунальная, и Новосёлов должен был звонить три раза. Короткими тремя звонками (чтобы она знала, знала, что это он! а то мало ли – кто!) При звонках сердце её обрывалось, звонки всегда были неожиданными для неё, и вообще она ловила себя на том, что прежде чем куда-нибудь идти (уже одетой, одетой, выйти за дверь!), она по-мышиному вслушивается у двери, ждёт, чтобы в коридоре никого не было, чтобы пусто, пусто стало там! И часто губы в простуде, как в жемчугах, да и вообще, без жемчугов когда – так бывало.
Ожидая царственного кивка певицы, маленький пианист раскинул ручонки по клавиатуре как чижик крылышки. Вдарил, наконец, первый аккорд, и певица сразу же круто набычила голос в новом, в жесточайшем речитативе. Шли опять, что называется, ноты с мясом. И Серову явно нравилось такое пение певицы: кивал, поталкивал то Новосёлова, то Ольгу, подмигивал, мол, во даёт!