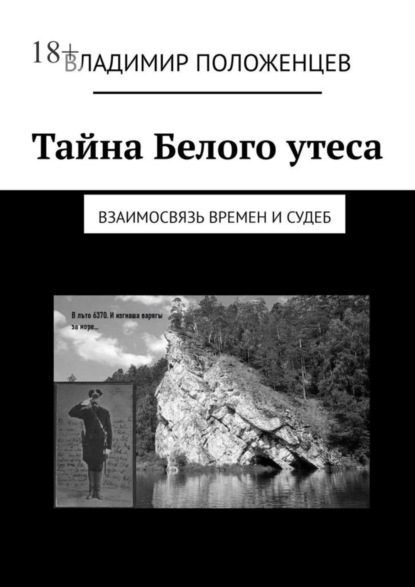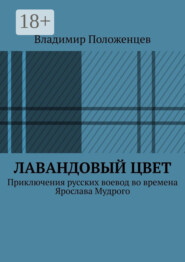По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тайна Белого утеса. Взаимосвязь времен и судеб
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Как тебе только не совестно такую дрянь мне приволакивать, а еще Серафимус, огненный ангел, – продолжал укорять торговца Бубнов. – Тьфу!
– Напрасно вы меня ругаете, Никодим Савельевич, – ответил парень. – Вы же знаете, какое нынче время: мужики на войне, одни «золотые люди» да бездельники сплавщики в уезде остались. Теперь бабы зелье из браги варят. А из чего брага? Из всякой дряни: гнилая картошка и прелая бушма. Да и руки бабьи под это дело не приспособлены. Вот и результат.
– А мне без разницы кто и из чего гонит. – Кабатчик перешел к протирке фарфоровых тарелок. Он их так же поворачивал к свету, будто они просвечивались насквозь, как и фужоры. – Я ведь крест целовал, что буду честен к людям, не буду травить их всякой пакостью, потому и зовусь целовальником. И ты дело свое честно исполняй, тогда и к тебе будут относиться по-честному.
– Ежели зелье не нравится, тогда зачем принимаете?
– А чем мне поить «золотых людишек»? Они же кажный день тута, как токмо закат чуть забрезжит. И сплавщики от них не отстают. Откажешь им в выпивке, костей не соберешь. Вот и беспокоюсь, что за такое пойло они мне и дом, и кабак спалят. Эх, Серафимушка, на грех людей толкаешь, а меня на погибель. Придется тебя наказать.
Мелкие, острые глаза «студента»» провалились глубоко внутрь серых глазниц.
– Это как же?
– Рублем, мой дорогой, рубчиком. А как же ты думал. Словом, ныне за свой товар получишь токмо половину.
– Да как же, Никодим Савельевич? Мне же с людьми рассчитаться надо.
– А вот как хошь, так и рассчитывайся. Хоть порты последние продавай, мне без разницы. Ха-ха, токмо никто их у тебя не купит, больно страшные. И вшивые, поди.
Парень зашелся «чахоточным кашлем». Из-за чахотки и на фронт его не взяли. На самом деле, никакой легочной болезни у него не было. Чахоткой страдал его отец, мелкий уездный чиновник, который купил на последние деньги свидетельство о недуге сына, чтобы тот остался при нем для присмотра, да и помер. Серафим так поверил в свою хворь, что при сильном волнении начинал «зело кашлять».
Целовальник выложил на стол несколько бумажных купюр и горсть монет.
– С тебя и этого много. Проваливай.
Лицо торговца залила сиреневая краска.
– Видит бог и мальчонка тому свидетель, – сказал Серафим, кивнув на полового Ермилку, что тер пол рогожей. – На преступление вы меня толкаете, а не я «золотых людишек», Никодим Савельевич. На преступление самоубийственное. Мне теперь нет другого пути.
– А ты в Петроград сбеги, тама полно таких прощелыг как ты, которые законное правительство скинули. Среди них своим будешь. Ха-ха.
– Любезновы никогда ни от кого не бегали.
– Надоел, пошел вон.
Целовальник собирался приняться за графин, но тут в его лицо полетели монеты, что он выложил Серафиму. Бубнов схватился за нож, уже сделал было выпад, однако передумал, швырнул разделочный тесак в угол, который тут же подобрал перепуганный Ермилка. Мальчик, прижав нож к груди, забился под стол.
– Я тебе отвечу, – зло произнес кабатчик. – И отвечу так, что черти удивятся.
– Мне твои угрозы, – перешел на «ты» Серафим, – что карасю дождь. Смотри, как бы сам с чертями первым не свиделся.
Бубнов все же не сдержался, запустил в парня глиняную кружку, которая ударившись о край двери в погреб, разлетелась на мелкие осколки. Один из них попал в глаз Любезнову. Он прикрыл его рукой, скорым шагом направился к выходу, не взяв бубновских денег.
***********
– Ни копейки так и не принял? – переспросил следователь полового.
– Нет, я точно видел, – ответил Ермилка. – Выскочил из трактира и дверью так хлопнул, что дохлые мухи с потолка посыпались.
– Значит, Серафим сказал Бубнову, что тот его толкает на преступление?
– Да, на самоубийственное.
– Самоубийственное, – задумчиво повторил Блудов, теребя подбородок. – Вы, сударь, во сколько пришли в трактир?
– Как обычно, в восьмом часу.
– И?
– Передняя дверь была заперта, что меня удивило. В это время хозяин всегда на месте, его дом позади трактира, через забор.
– Ну-ну.
– Не подгоняйте, пожалуйста, сударь, а то я сбиваюсь.
– Извините, сударь.
– Так вот. Передняя дверь… Ну да, я уже про это сказал. Тогда я обошел «Дерюгу», смотрю задняя дверь, что ведет в подсобку, приоткрыта. Там лестницы нет, как в зале.
– Понятно.
– Окликнул хозяина, а никто не отвечает. Прошел внутрь и гляжу, он распластанный лежит возле бочек, а голова пополам расколота как арбуз. И кровищей пол залит.
– Или как вареное яйцо, так ведь вы фельдфебелю рассказали.
– Так. Но какое это имеет значение?
– Вы не видели рядом с трупом… рядом с целовальником орудия убийства? Топора там или тесака.
– Нет, ничего такого не было. Я сразу побежал в участок, где всё и рассказал помощнику околоточного надзирателя.
– Ну а возле трактира или где еще не встречали кого незнакомого, может что-то необычное заметили?
– Незнакомых не видел, а необычное… Да нет. Только двуколка лакированная с черной лошадью за амбаром купца Дягилева, что в прошлом году спьяну в реке утоп, стояла.
– Пустая?
– Не помню, говорю же, я сразу помчался в участок и рассказал об убийстве вашему фельдфебелю.
Помощник надзирателя Журкин появился как нежить после упоминания о нем. Крупное лицо его было красным, напряженным, усы торчали, словно у моржа, шею он тер носовым платком, но воротника кителя не расстегивал, соблюдал уставную форму. Видно, на фельдфебеля произвела сильное впечатление картина убийства. «Череп расколот как арбуз». Под мышкой Журкин держал тетрадь в кожаной обложке.
– Место преступления подробно описал, – доложил он следователю. -Изволите сами взглянуть?
– Разумеется. Супруге убитого показали место преступления?
– Держится как гвоздь железный в стене, ни единой эмоции.
– Интересное сравнение.