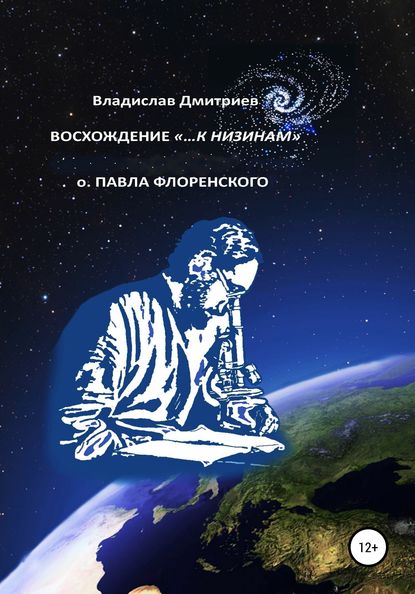По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Восхождение «…к низинам» о. Павла Флоренского
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Продолжая тему естествоиспытания, высказался о вреде систематизации каких-либо фактов в отрыве от конкретных образов изучаемых явлений: «1936.ХI.22. … если понятие не сопровождается образом, если отвлечение – только отвлеченно, то оно лишено какой бы то ни было цены и скорее вредно, чем полезно, для развития ума: становится мертвящей догмой, обуживает дух, лишает его свободы и творчества. Это будет в плохом смысле слова система».
Далее аргументирует свое отношение к непродуманной систематизации, которое, по его мнению, имеет негативные последствия: «Люди нового времени, начиная с эпохи Возрождения, все более и более заражались Системоверием, подменою чувства реальности отвлеченными формулами, которые уже не несут функции быть символами реальности, а становятся сами суррогатом реальности. Так человечество погружалось в иллюзионизм, в утрату связи с миром и в пустоту, а отсюда и необходимое следствие – скука, уныние, разъедающий скепсис, отсутствие здравого смысла. Схема, как схема, сама по себе, не контролируемая живым восприятием мира, не подлежит и серьезной проверке: всякая схема м. б. хороша – в смысле удачно сама в себе построена. Но мировоззрение – не шахматная игра, не построение схем впустую, без опоры в опыте и без целеустремленности к жизни. Как бы ни была она сама в себе остроумно построена, без этого основания и без этой цели она лишена ценности. Вот почему я считаю совершенно необходимым в молодом возрасте накапливать конкретное мировосприятие и лишь в более зрелом оформлять его».
О своем же мировосприятии жизни он писал следующее: «1936.ХI.24 … У меня такое свойство: бодро и беззаботно смотреть на будущее, рассчитывая на творчество самой жизни, не планируя и не загадываясь далеким будущим; но прошлое меня ужасает. … Жизнь напоминает мне тоненькую свечку, горящую при бурном шторме. Скорее удивительно, что ее не задувает мгновенно, чем то, что она все-таки не гаснет всегда, во всяком случае. Теоретически в этом надо видеть наглядное доказательство, что жизнь, в целом, сильнее всех стихий мира. Это, впрочем, не очень утешительная истина, хотя и весьма важная в общем миропонимании: ведь любим мы не жизнь вообще и не в целом, а в частности и в части, определенное существо, и гибель его не оправдывается сохранением жизни вообще». А в следующем письме Кириллу разъясняет: «1936.XII.10-11… Живая мысль обязательно диалектична, а, следовательно, и контрапунктична: в ней сплетаются, противопоставляясь и сочетаясь, элементы разнородные, и если они из разных областей, то тогда возникает и подлинно естествоиспытательский подход к природе». И, в этом же письме тщательно рассмотрев историю Белого моря и находящихся в нем водорослей, предупредил: «… в жизни полосы удач и неудач чередуются, и надо относиться к этому чередованию терпеливо и с выдержкой: не зазнавайся, когда идут удачи и не унывай при неудачах. Обычно самые неудачи в дальнейшем служат источником нашей же пользы. А кроме того нельзя, чтобы в жизни было все дано только приятное, это вредно для нас».
Но неприятности в его жизни уже начались, снова переезд, связанный с попыткой интенсификации работ по добыче йода, так как, несмотря на рабский труд заключенных, добыча йода из водорослей не выдерживала конкуренции с более дешевым способом его добычи из нефтяных скважин: «1936.ХII.18—19. … В настоящее время я живу на новом месте, т. е. в том же здании, но рядом с лабораторией, которая переведена в другую комнату, в самой древней части 2-го этажа. Живу один. Комната небольшая, в глубину шагов 10, а в ширину 3. Помещение более уединенное, чем было раньше и более тихое, но холодновато». И в письме матери об этом: «Теперь и лаборатория и моя келлия более уединенны и более тихи, но зато лишены своеобразия прежних … я нахожусь в обыкновенных оштукатуренных стенах, правда стенах весьма старинных и достаточно толстых. … Обдумываю один аппарат для непрерывного получения йода прямо из водорослей». Видимо, он не терял надежду на то, что будет найден выход из создавшегося положения техническими средствами.
Но как бы ни менялись условия его пребывания в лагере, одно оставалось неизменным – интенсивная умственная работа, выливающаяся в письмах в научные и философские зарисовки: «1936.ХП.23—24, правильнее, 24, т. к. уже около 4 часов. … Много сижу над микроскопом. И каждый раз открываю заново с детства мне известную истину, что углубляясь в мир малого мы встречаемся с тою же сложностью, что и в великом. Когда, кажется, будто мы подходим к более простому, то это происходит или от недостаточной техники, или от верхоглядства. На самом же деле, если брать действительный опыт, а не схемы и фантазии, ряд сложности не убывает с уменьшением размеров, и вместо одних сложностей обнаруживаются другие… Ряды не сходятся – таково обобщение доступного нам мира, сложное не есть логический … простого, а неотделимо от него, объединяясь в понятие целого. Целое же всегда столь же просто, как и сложно, столь же сложно, как и просто. “Целое прежде своих частей” (онтологически прежде), но не существует без сложности, т. е. без частей. И части не существуют без целого, т. е. просто так. Атомы, электроны и проч. очень полезны, но все-таки они не достояние прямого опыта, а примысел, регулятивная идея, и идея эта отходит все дальше, по мере того как развивается опыт. Вот почему, все теперь занимаются физико-хим. науками. Я втайне не люблю все эти схемы, вместе с тем признавая их необходимость для нас, м. б. по причине слабости нашей мысли. Подлинно же великие умы, например, Фарадей, Пастер и др. в этих построениях не нуждались и строили науку без них. Пожалуй, скажу, что эти схемы дематериализуют мир. Они приносят много пользы, помогая схематизировать явления, но вместе с тем или именно тем, что помогают, влекут в сторону, создают дурную и вредную привычку подменять действительно наблюдаемое отвлеченной схемой и фикцией отвлеченного порядка».
Здесь снова нашла отражение его борьба со схемами, точнее с упованием на них, так как они не отражают и не могут заменить всего многообразия реальности, хотя возможно, в его критике схем имеется идеологическое непринятие политических идей того времени.
4.10. Вершина (1937г.)
Заканчивался 1936 год, впереди был печально известный 1937 год, год трагических изменений судеб миллионов жителей страны. Понимали ли лагерные сидельцы к чему идет страна – безусловно, надеялись ли на лучшее – конечно. Но лучшего не получилось, впереди были только самые страшные испытания. Однако в первых числах нового 1937 года об этом никто не знал и не мог знать, но, тем не менее, в его письмах этого года особенно много обобщающих и подводящих итоги формулировок.
И, как всегда его мысли звучат на удивление современно: «1937.I.3—4. … жизненная задача – не в том, чтобы прожить без тревог, а в том, чтобы прожить достойно и не быть пустым местом и балластом своей страны. Если попадаешь в бурный период исторической жизни своей страны и даже всего мира, если решаются мировые задачи, это конечно трудно, требует усилий и страданий, но тут-то и нужно показать себя человеком и проявить свое достоинство. Что же, были мирные и спокойные периоды. Но разве большинство использовало эти годы спокойствия? Конечно нет, занимались картами, интригами, пустословием, делали очень мало достойного внимания. Были ли удовлетворены? Нет, томились от скуки, куда-то рвались, даже кончали самовольно счеты с жизнью». И по отношению к себе пишет: «Оглядываясь назад и просматривая свою жизнь (а в моем возрасте это особенно надлежит делать) я не вижу, в чем по существу я должен был бы изменить свою жизнь, если бы пришлось начинать ее снова и в прежних условиях. Конечно, я знаю за собою много отдельных ошибок, промахов, увлечений – но они не отклоняли меня в сторону от основного направления, и за него я не упрекаю себя. Я мог бы дать гораздо больше, чем дал, мои силы и по сей день не исчерпаны, но человечество и общество не таковы, чтобы сумело взять от меня самое ценное. Я родился не вовремя, и если говорить о вине, то в этом моя вина. М. б. через лет 150 мои возможности и могли бы быть лучше использованы. Но, учитывая историческую среду своей жизни, я не чувствую угрызений совести за свою жизнь в основном. Скорее наоборот. Раскаиваюсь (хотя это раскаяние не доходит до глубины), что относясь к долгу страстно, я недостаточно расходовался на себя, – под “на себя” разумею вас…».
И там же не только неприятное, но и, к сожалению, верное обобщение о человеке: «…Человек – враг самому себе, и где он появляется, там начинает портить условия своего собственного существования: мусорить, грязнить, истреблять. Но, к сожалению, так было испокон веков, и нужна очень высокая степень культурности, чтобы задерживать эту вредоносность человеческой деятельности. … Лишь бы вот, сейчас, себе, без труда, урвать что нужно или даже не нужно, а последствий никто не учитывает».
Справиться с «вредоносностью» человека можно, придерживаясь простого правила: «Поступай так, чтобы твое поведение могло бы стать правилом для всех. … Поэтому старайся вести себя так, чтобы твое поведение, повторенное каждым, дало бы жизнь если не совершенную, то хотя бы сносную». Это его наказ всем, так как он говорит о человечестве вообще; и единственный избежать самоуничтожения – повышение общей культуры и знания самого человека.
В этом же письме видно его понимание роли математики: «Математика самая важная из наук, образовывающих ум, углубляющая, уточняющая, обобщающая, связывающая все миросозерцание в один узел; она воспитывает и развивает, она дает философский подход к природе».
Но все же тревожные предчувствия у него были, о чем он пишет детям: «1937.I.13. … Сижу по обыкновению ночь. Вот и старый стиль привел новый год. Знамения его дня меня не веселят: видел сегодня бабушку вашу – мою маму, в грустном виде; смотрел на северное сияние, величественное, но над чернейшим, вероятно тучевым, сегментом; слушаю завывания ветра. Да и все как-то тревожно и уныло».
В следующем его письме можно найти строки, которые часто вспоминаются сегодня, когда проходят юбилеи, в том числе и его. В преддверии своего 55летнего юбилея, он пишет: «1937.I. 17—18. … Вообще, мне не раз думалось, что современное празднование юбилеев великих людей, делаемое широко и с шумом, должно оказать весьма благотворное культурное воздействие, заставляя узнавать и хотя бы немного знакомиться с именами, [о] которых большинство раньше вероятно и не подозревало. … Конечно, надо бы, чтобы подобные имена были известны всем и без юбилея. Но юбилей дает удачный предлог или повод нанести культурный удар по данному месту мировой истории, и вероятно подобный удар не остается бесследным». И дальше об общей культуре, которой нет там: «… где нет памяти о прошлом, благодарности прошлому и накопления ценностей, т. е. на мысли о человечестве, как едином целом не только по пространству, но и по времени. Живая культурасочетает в себе противоборственные и вместе с тем взаимоподдерживающие устремления: сохранить старое и сотворить новое, связь с человечеством и большую гибкость собственного подхода к жизни. И только при наличии этих обоих устремлений может быть осмысливание нового и доброжелательство ко всему, заслуживающему доброжелательства, на фоне мировой культуры, а не с точки зрения случайного, провинциального и ограниченного понимания».
Его мысли со временем не стареют, так как в них большой обобщающий потенциал, хотя он и пишет далее: «Бродят мысли обобщающие, но я не фиксирую их и надеюсь, что со временем они сами найдут себе формулировку. Впрочем, учитываю и краткость своего времени, а следовательно и возможность, что этот процесс формулировки и обобщения не завершится и не успеет выразиться. Но что же делать, не ценю мысли только за то, что она мысль и нова; она должна быть ИСТИННОЙ, а истинностьдается не схематическими построениями, какими бы убедительными они ни казались окружающим, не модою и шумом, а глубоким вживанием в мир, упорною проверкою и органическим ростом. У каждой мысли есть свое время развития и созревания и нельзя по внешним мотивам искусственно ускорить этот процесс, т. е. нельзя в смысле не должно, а не невозможно. Поэтому-то я и зарываюсь в конкретную работу по конкретным поводам, в душе думая, что мысль, если она в самом деле растет, то рост ее идет сам собою».
Снова в его письмах звучат обобщающие формулировки, а точнее грустное эссе о человеческом непонимании и запоздалой благодарности, смысл которого совершенно справедливо можно применить к нему самому. Хотя он писал свои строки по поводу юбилея А.С. Пушкина, чувствуется, что написаны под влиянием собственной судьбы и обобщают судьбу многих выдающихся людей: «1937.II.13. … на Пушкине проявляется … мировой закон о побивании камнями пророков и постройке им гробниц, когда пророки уже побиты. Пушкин не первый и не последний: удел величия – страдание, – страдание от внешнего мира и страдание внутреннее, от себя самого. Так было, так есть и так будет. Почему это так – вполне ясно; это – отставание по фазе: общество от величия и себя самого от собственного величия, неравный, несоответственный рост, а величие есть отличие от средних характеристик общества и собственной организации, поскольку она принадлежит обществу. Но мы не удовлетворяемся ответом на вопрос “почему?” и хотим ответ на вопрос “зачем?”, “ради чего?”. Ясно, свет устроен так, что давать миру можно не иначе, как расплачиваясь за это страданиями и гонением. Чем бескорыстнее дар, тем жестче гонения и тем суровее страдания. Таков закон жизни, основная аксиома ее. Внутренне сознаешь его непреложность и всеобщность, но при столкновении с действительностью, в каждом частном случае, бываешь поражен, как чем-то неожиданным и новым. И при этом знаешь, что не прав своим желанием отвергнуть этот закон и поставить на его место безмятежное чаяние человека, несущего дар человечеству, дар, который не оплатить ни памятниками, ни хвалебными речами после смерти, ни почестями или деньгами при жизни. За свой же дар величию приходится, наоборот, расплачиваться своей кровью. Общество же проявляет все старания, чтобы эти дары не были принесены».
Развивая свою мысль о судьбе великих людей, он как философ и историк обосновывает и аргументирует свои выводы: «… ни один великий никогда не мог дать всего, на что способен – ему в этом благополучно мешали, все, все окружающее. А если не удастся помешать насилием и гонением, то вкрадываются лестью и подачками, стараясь развратить и совратить. Кто из русских поэтов, сколько-нибудь значительных, был благополучен? Разве что Жуковский, да и то теперь открываются интриги против него, включительно до обвинения в возглавлении русской революции. Философы – в таком же положении (под философами разумею не тех, кто говорит о философах, но кто сам мыслит философски), т. е. гонимые, окруженные помехами, с заткнутым ртом. Несколько веселее судьба ученых, однако, лишь пока они посредственны. Ломоносов, Менделеев, Лобачевский не говорю о множестве новаторов мысли, которым общество не дало развернуться. (Яблочков, Кулибин, Петров и др.) – ни один из них не шел гладкой дорогой, с поддержкой, а не с помехами, всем им мешали и, сколько хватало сил, задерживали их движение. Процветали же всегда посредственности, похитители чужого, искатели великого, – процветали, ибо они переделывали и подделывали великое под вкусы [и] корыстные расчеты общества. – Недавно я позавидовал Эдисону. Как у него было использовано время и силы– благодаря наличию всего материального и, главное, самостоятельности. А у нас время проходит зря, рассеиваясь на мелочи, несмотря на огромную затрату сил – потому что ничего не можешь устроить так, как считаешь нужным». В этих последних словах виден весь его опыт научных работ как на свободе в ВЭИ, так и в лагерях, и особых различий он явно не видел.
В это время ему приходилось решать серьезную техническую задачу сохранения производства йода. От того, работает заключенный на производстве или нет, зависело очень сильно его положение, начиная от места нахождения, уровня питания, зарплаты, до количества писем, которые можно было отправлять родным. Именно поэтому его деятельность становилась очень важной и для него, и для всех, кто работал на этом производстве: «1937.II.20. … Живу … в атмосфере … изменений в судьбе нашего завода, а следовательно и работы. … Мы переключаемся всецело на агар. Необходимо улучшить качество продукции, страдавшей у нас от дефектов оборудования, и весьма увеличить продукцию количественно».
Именно в это время работы с напряжением физических, моральных и интеллектуальных сил он пишет очень важное письмо, где объясняет свое мировосприятие и научные подходы: «1937.II.21. … Что я делал всю жизнь? – Рассматривал мир, как целое, как единую картину и реальность, но в каждый данный момент или, точнее, на каждом этапе своей жизни, под определенным углом зрения. Я просматривал мировые соотношения на разрезе мира по определенному направлению, в определенной плоскости и старался понять строение мира поэтому, на данном этапе меня занимающему, признаку. Плоскости разреза менялись, но одна не отменяла другой, а лишь обогащала. Сменой – непрерывной диалектикой мышления (смена плоскостей рассмотрения, при постоянстве установки на мир, как целое). Искал это слишком отвлеченно и обще. Конкретно же речь идет о том, что прослеживается значение во всех сферах природы того или другого хим. элемента, соединения, типа соединения, типа системы, геом. формы, текстуры, биологическ. типа, формации и т. д., чтобы уловить индивидуальный облик этого момента природы, как качественно своеобразного и незаменимого. Против механицизма грубого и механицизма тонкого, отрицающего качество, выявляется своеобразная качественно особенная природа отдельных моментов, универсальных по своему значению и индивидуальных по своей сущности. «Что есть всеобщее? – частный случай» (Гёте). Я работаю всегда в частных случаях, но усматривая в них проявление, конкретное явление всеобщего, … Мой отец говорил мне о моей несклонности к отвлеченному мышлению и о несклонности к частному исследованию, как таковому: “твоя сила там, где конкретное сочетается с общим”. Это верно. … Знаю, меня всегда упрекают в разбросанности. Это верно, но лишь как будто, ибо от раннего детства до сегодняшнего подхода м. б. это не под силу мне, но это не разбросанность, а слишком трудоемкая задача. Сейчас я … опять иду не от общих отвлеченных утверждений и допущений, а путем обобщения и углубления частных конкретных случаев, которые стараюсь воспринять во всей их конкретизации. Пока я сам, своими руками, не взвесил, перетолок, не провел анализы, не вычислил, я не понимаю явления. О нем могу говорить и рассуждать, но оно еще не стало моим. Вот, на эту-то конкретную “черную” работу и идут время и силы. Я не столько не могу, как не хочу позволять себе подходить к явлениям “вообще” и отвлеченно. Никто, вероятно, не заметил бы, если бы я стал идти над тем, но у меня самого при отвлеченном ходе мыслей появляется чувство недобросовестности и шарлатанства, и так именно я воспринимаю большинство обобщений других работников. Но в частном и конкретном должно светиться общее, – всеобщее».
В этих словах квинтэссенция его подхода к научной деятельности, как он её себе представляет и как, по его мнению, она должна проходить: через конкретный труд, черную работу, только так возможно глубоко проникнуть в проблему и решить её в конечном итоге. Всей своей научной деятельностью и в институте, и в лагерях он демонстрировал этот подход, который и приносил успех всем его начинаниям.
Обстановка в лагере становилась все более сложной. Ставилась задача резко повысить производство и качество продукции, только в этом случае сохранялась вероятность продолжения производства и сносные условия существования. В этих сложных и напряженных условиях он высказывает интересные мысли, например, сыну Василию, сначала констатируя: «1937.III.20, … никак не могу найти неск. спокойных часов. … Живу в атмосфере аврала, время не расчленяется для меня на дни и ночи, а тянется одной непрерывной лентой…». И далее, поведав о вулканах, высказал свои соображения о горных породах: «В чем суть “осадочной породы”? Совсем не в том, что она осадилась, а в том, что она получилась из породы же, без нарушения ее минералогической, а иногда и петрографической природы». И, рассмотрев ряд превращений магмы, делает космологический вывод: «… Необходимо подчеркнуть этот круговорот природы: нет пород в собств. смысле первозданных, а есть лишь звенья единого процесса, начала которого геология не знает и который, если его искать, то надо искать за ее пределами – в астрономии». И в следующем письме ему же продолжает: «1937.III.21 … Мною создана теория слюды, как состоящей из тонких пластинок со “склеивающим” их электролитом (отчасти найдешь краткое упоминание в статье “Слюда”). Думаю, этот же взгляд (в сущности XVIII века) следовало бы распространить и на гипс».
В другом письме он снова сетует: «1937.III.23. … Последнее время живу бешенным производственным темпом, ничего не поспеваем, хотя напрягаем все силы настолько, что порою кажется: вдруг изнеможем. … Скорей и побольше, побольше и скорей – вот единственное, что стоит в голове». И, отвечая на просьбу матери записывать свои мысли, пишет: «Некогда, мамочка, – и не для чего. Записываю, но не мысли, а фактические сведения, то что собирать долго и, если напал на что, то снова в другой раз уж не найдешь. К тому же, мне, для себя, факты говорят более теорий, и всевозможные живые данные из биологии, физики, химии, геологии и т.п. кажутся значительнее обобщений, – м.б. потому, что обобщений у меня всегда вороха».
В этом письме к матери он возвращается к теме своих высказываний о юбилеях и обобщениям о сущности человека: «В конце концов, мало радости в мысли, что когда будущее с другого конца подойдет к тому же, то скажут: “Оказывается, в 1937 г. уже такой-то NN высказывал те же мысли, но на старомодном для нас языке. Удивительно, как тогда могли додуматься до наших мыслей”. И, пожалуй, еще устроят юбилей или поминки, которым я буду лишь потешаться. Все эти поминки через 100 лет удивительно высокомерны. Люди каждого времени воображают только себя людьми, а все прошлое животноподобным состоянием; и когда откроют в прошлом что-то похожее на их собственные мысли и чувства, которые только и считаются настоящими, то надменно похвалят: “Такие скоты, а тоже мыслили что-то похожее на наше”. Моя точка зрения совсем другая: Человек везде и всегда был человеком, и только наша надменность придает ему в прошлом или в далеком обезьяноподобие. Не вижу изменения человека по существу, есть лишь изменение внешних форм жизни. Даже наоборот, человек прошлого, далекого прошлого, был человечнее и тоньше, чем более поздний, а главное – не в пример благороднее». Неудивительное заключение, если вспомнить его последние годы жизни. Тему ценности произведений и людской сущности можно проследить и в его письме дочери где, давая оценку композиторам, замечает: «1937.III.23. … Когда я хочу дать себе окончательный ответ на вопрос о ценности произведения, то спрашиваю себя: что было бы, если этого произведения не существовало. Потерял ли бы мир без него … ибо прекрасное не только красиво, но и истинно. ... Один третьестепенный писатель высказывает мысль: “Россия—страна пророков”. Да, только лжепророков. Каждый одаренный человек хочет быть не тем, что он есть и чем он может быть реально, а презирает свои реальные способности и в мечтах делается переустроителем мироздания: Толстой, Гоголь, Достоевский, Скрябин, Иванов (художник), Ге и т. д. и т. д. Только Пушкин и Глинка истинные реалисты. Мудрость – в умении себя ограничить и понимании своей действительной силы». Вот такой аскетический подход к жизни и понимание своих возможностей.
О том, как он себя чувствовал в эти дни, можно узнать из следующих строк: «1937.IV.4. … в связи с трудностями и неполадками нашего производства, чувствую себя весьма неудовлетворительно. … это какая-то внутренняя тревога, смятение чувств. Я почувствовал, как мне недостает природы и как отвратительно производство, всегда мне чуждое. Ведь в основе всякого производства всегда лежит копейка, и она не становится много выносимое от того, что идет не в индивидуальный карман, а в общий».
В его письмах затрагивается много различных тем, там можно найти и рассуждения о бессмысленности гражданских войн, которые периодически вспыхивают в истории различных стран, и, к сожалению, актуальны на современном этапе для ряда стран. Эти мысли у него появились после прочтения книги «История Англии», но, как у него обычно и бывает, на примере Англии 14 века он делает обобщение обо всех гражданских войнах, в частности, пишет: «1937.IV.4. № 97. Дорогой Олень, кажется я писал тебе уже об “Истории Англии”. … Непрестанные войны, то внешние, то междуусобные, смысла и мотивов которых не доищешься, да едва ли знали их и сами деятели XIV века. Но бессмысленность этих войн ничуть не мешала им быть кровопролитными до последней степени. … В немотивированности войн легко убедиться по переходу командного состава и их войск то на одну сторону, то на другую; следовательно, никакой идеи и даже никакой определенной заинтересованности в результатах войны у них не было. Меня поражает бессмысленность человеческих действий, не находящих себе оправдания даже в своекорыстии, поскольку люди действуют в ущерб и собственным своим интересам. О моральной стороне говорить не приходится. Сплошное клятвопреступление, обман, убийства, низкопоклонничество, отсутствие каких бы то ни было устоев. … Мой вывод (впрочем, я уже давно пришел к нему): в человеке есть запас ярости, гнева, разрушительных инстинктов, злобы и бешенства, и этот запас стремится излиться на окружающих вопреки не только нравственным требованиям, но и собственной выгоде человека. Человек неистовствует ради неистовства. Цепи твердой власти до известной степени сдерживают его, но тогда человек начинает ухищряться сделать то же, обходя закон, в более тонкой форме. Конечно, было бы несправедливо утверждать, что все таковы. Но таковы многие, очень многие, и в силу своей активности эти хищные элементы человечества занимают руководящие места в истории и принуждают делаться хищными же прочее человечество». Вывод на все времена и, к сожалению, актуальный. И, заканчивая письмо, пишет: «Вот, … что усмотрел я на частном случае – истории Англии XIV века. Стало ли человечество лучше? Сомневаюсь. Оно стало внешне приличнее, облекло насилие в формы менее яркие, т. е. не дающие хороших сюжетов для эффектных трагедий, но суть дела не изменилась».
С конца апреля в его письмах начинают проскальзывать грустные ноты завершающего свое дело человека: «1937.IV.20. … Оглядываясь назад, я вижу, что у меня никогда не было действительно благоприятных условий работы, частью по моей неспособности устраивать свои личные дела, частью по состоянию общества, с которым я разошелся лет на 50, не менее – забежал вперед, тогда как для успеха допустимо забегать вперед не более как на 2–3 года». Полностью оправдавшаяся оценка своего положения в истории страны, но все же: «… Хочу сказать: надо уметь жить и пользоваться жизнью, опираясь на то что есть в данный момент, а не обижаясь на то, чего нет. Ведь времени, потерянного на недовольство никто и ничто, не вернет».
Ухудшающиеся условия в лагере, наступление мрачных времен в стране отражается в его мыслях, которые выливаются в письма: «1937.V.11. Соловки. … Наша водорослевая эпопея на днях кончается, чем буду заниматься далее – не знаю, м. б. лесом, т. е. хотелось бы применить в этой области математ. анализ. Окончание работ по водорослям естественно: ведь в моей жизни всегда так, раз яовладел предметом, приходится бросать его по независящим от меня причинам и начинать новое дело, опять с фундаментов, чтобы проложить пути, по которым не мне ходить. Вероятно, тут есть какой-то глубокий смысл, если это повторяется на протяжении всей жизни – наука бескорыстия. Но все же это утомительно. Если бы я собирался жить еще 100 лет, то такая судьба всех работ была бы лишь полезна, но при краткости жизни она лишь очистительна, а не полезна. Впрочем, в Коране сказано: “Ничего не случается с человеком, что не было бы написано на небесах”. Очевидно, обо мне написано быть всегда пионером, но не более. И с этим надо примириться. Пишу же об этом не столько для себя, как для детей: уроки рода должно усваивать и осознавать, чтобы использовать свою жизнь, приспособляясь к ожидаемому и наиболее вероятному. Моя мысль и забота всецело с вами, и хочется передать вам опыт жизни и размышлений. – 1937.V.13. Пока я писал это письмо, произошли изменения в моей жизни: Сейчас переселяюсь в Кремль».
4.11. Итоги
В это время он пишет, по мнению автора, очень важное для понимания его судьбы и вклада в науку письмо. Еще во время написания книги «Лики науки», собирая материал, в частности, о П.А. Флоренском, который работал в ВЭИ, автору приходилось вступать в дискуссии по вопросу – а что такого сделал Флоренский?
Действительно: в школах не проходили, в институтах не обучали, ссылок на используемые идеи и авторства в учебниках не было, научной литературы с его именем тоже, а та, что выходила при его жизни изымалась из библиотек и уничтожалась. Увы, существовавшая в его время власть постаралась стереть из памяти нескольких поколений его имя, предать его забвению. Отчасти замысел этой книги и был вызван этими дискуссиями, но началось все с этого письма, откуда можно понять и энциклопедичность его интересов, и его научную судьбу. Для лучшего восприятия здесь письмо приведено в форме, которая использовалась в книге автора:
«П.А. Флоренский – К.П. Флоренскому 1937.V.13. Соловки
Дорогой Кирилл,
В газете мне попалась заметка об учреждении при Академии наук секции по технологии водорослевого дела, а мама пишет относительно лекций Павла Николаевича о мерзлоте. Так от меня всегда уходит то, над чем я работал, в чем достиг результатов и на подготовку к чему затратил много труда. Мысленно просматривая свою жизнь (пора подводить итоги), усматриваю ряд областей и вопросов, которые начал я и которыми потом занялись “всъ” (чтобы не прочел все), то есть очень многие, мне же либо пришлось оставить дело, либо сам оставил, так как противно заниматься вопросами, к которым лезут со всех сторон и захватывают. Тебе может быть будет интересен список важнейших.
В математике:
1. Математические понятия как конститутивные элементы философии (прерывность, функции и прочее).
2. Теория множества и теория функций действительного переменного.
3. Геометрические мнимости.
4. Индивидуальность чисел (число-форма).
5. Изучение кривых in concreto.
6. Методика изучения формы.
В философии и истории философии:
1. Культовые нормы начатков философии.
2. Культовая и художественная основа категорий.
3. Антиномии рассудка.
4. Историко-филолого-лингвистическое изучение терминологии.
5. Материальные основы антроподицеи.
6. Реальность пространства и времени.
В искусствоведении:
1. Методика описания и датировки предметов древнерусского искусства (резьба, ювелирные изделия, живопись).
2. Пространственность в художественных произведениях, особенно изобразительного искусства.