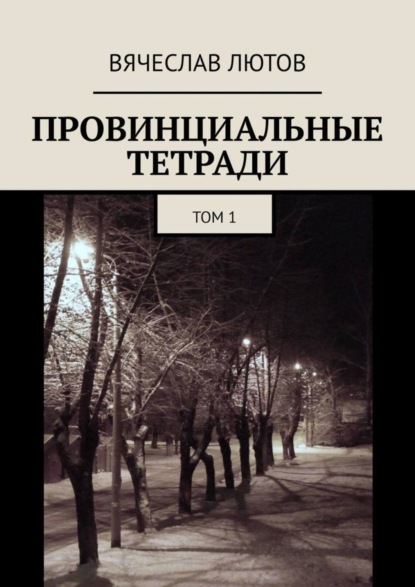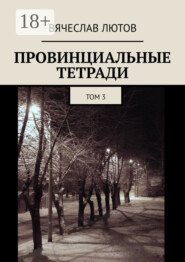По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Провинциальные тетради. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Сонный сторож стучит мертвой колотушкой…»
И нет больше других звуков, кроме колотушки и музыки моего успокоения. И не надо. Мне не нужно того, чего у меня нет…
Восхитительный мир открывается ночью – бесконечный и загадочный; листья тополя шелестят за спиной…
Откуда здесь, на севере, тополя? – видно, деревья всюду спешат за нами…
Но все, что я хочу сказать, не больше, чем слова; и если бы я захотел спеть, то это было бы не больше, чем песня – звуки и ноты вперемежку с буквами; и краски на моем холсте – не больше, чем оттенки цвета, чьей-то властной и безжалостной рукой запрятанного в жестяные тюбики.
Зачем?..
И я не знаю, отчего человек так стремиться понять то, что очевидно и без его ума; и так же то, к чему его мозги пока не подготовлены. Поэтому смута и суета.
Да, но все гениальные идеи человечества рождаются всуе и в спешке; «все гениальное изначально ничтожно». Вот и я, кавардачный человек, пытаюсь думать обо всем сразу, и нет мне надобности приводить в порядок свои мысли, и нет никакого желания писать для потомков – нужно писать для тех, кто рядом с тобой, и не гнуть из себя невесть что, и не придумывать себя, постоянно дрожа перед тем, что скажут о тебе.
Я, должно быть, эгоист, ибо сначала пишу о себе, а потом уже о своем времени.
…Из вагона тяжело вываливается Вовка – мой названный брат – что-то спрятав в руке. Вот, я и о нем напишу…
Улыбается.
«Братан, выпить хочешь?»
Когда я отказывался! В стакане не то портвейн, не то вермут – ныне все одно и то же, да и в темноте не разберешь ни черта.
«Ты чего скучаешь?»
«Так, за жисть думаю»
У меня хороший брат.
Прекрасно пить на свежем воздухе! – трезвенники не замечают этого: пекутся о своем здоровье.
Дайте человеку вечность – и он растеряется: он не знает, что ему делать с бесконечностью. И не суть важно, умрешь ли ты на десять лет раньше или на десять лет позже от положенного срока – я повторяюсь, и даже знаю, за кем…
Мне хорошо здесь, сейчас, именно в эту минуту, именно в этот глоток замечательно-мерзкого напитка; и в рай меня коврижками не заманишь…
А думы о будущем? Пускай об этом думают философы, ломают свои экзистенциальные головы и кричат: «эврика!» Они не знают, что быть дураком намного мудрее. Или, хотя бы приятнее…
«А глазки у тебя, признаюсь, блестят!»
«Ох, братан, не говори…»
Он закуривает, спичка ломается – Вовка матерится; и ищет глазами, где бы присесть.
«Мужики у меня в вагоне отличные. На вахту поехали. Я им три флакона продал… Вон, вываливаются…»
Написал бы, да грешно ругаться на бумаге…
И спеть бы, да голоса нет; и сыграть бы, да откуда в поезде гитара? Среди тишины и ночи даже самый разбитый инструмент способен выдавать чудесные звуки; можно даже не касаться струн, а воздух все равно будет отравлен музыкой. Я отравлюсь ей, и будут мне мозги промывать. Весело.
Я добродушно обнимаю братана и говорю, что пошел к Натке.
«Ну-ну»…
Не спеши… никуда не спеши…
И откуда такая мысль взялась? Путь все торопятся вершить глобальные дела во имя будущего – я слишком ленив для великих свершений.
В вагоне моем все спят, и в следующем – тоже все спят, и, должно быть, видят сны… А мне сны не снятся. Жаль, очень жаль…
Натка в своей серой рубаке и синей юбке. И рубашка легкомысленная – потому что с рюшечками…
Она улыбается мне и я улыбаюсь в ответ.
«Вот, и Славка пришел, как живой», – говорит она и предлагает выпить кофе.
В наше время – и кофе?
«Я, говорит, у фарцов купила. Недорого. По пятнашке».
Ладно, значит, будем пить кофе… Я присаживаюсь у окна и как бы невзначай задергиваю занавеску.
На столике у нее милый беспорядок: раскрытая косметичка с обыкновенной, не фирменной, помадой, бутылка из-под молока с полевыми цветами, в целлофановом мешке – печенье, тут же граненый стакан-пепельница, забитый доверху фантиками и окурками.
«Сильна ты курить-то».
«Да ты че…»
Жаль, что кофе не горячий… Но титан топить лень. Оттого и мешаем подолгу ложечкой, растворяя походный сахар – нам и спешить-то, собственно, некуда.
И вообще, смешно: поезд, а никуда не едет, словно стоим где-то в забытом богом тупике, слушаем, как каркают вороны вдоль линии. Не спится им…
«Что, Вовка пьяный?»
«Как тебе сказать… Это его обычное состояние».
«Красавчик», – подытоживает она.
Я осторожно кладу ей руку на плечо и подсаживаюсь ближе.
«Это ничего, что вот так?» – она, прищурившись, смотрит мне в глаза.
«Ничего».
И я целую, но чувствую холод губ; и мне кажется, что я не к месту в ее жизни; так, просто: случайный, но очень хороший знакомый. Я все чувствую, черт возьми, но оторваться не могу, не могу освободиться от пьянящего аромата ее губ, от страстной жажды владеть ею всей.
Точно так же, как владеть словом, что мне дано; владеть строфами и рифмой, владеть образом и чувством, владеть каждой запятой и любым пробелом. Я хочу видеть ее своей поэзией…