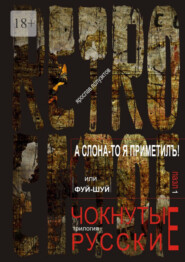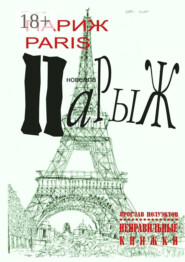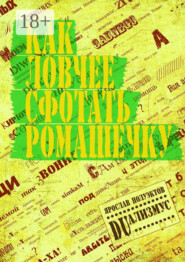По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
За гвоздями в Европу
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Об этом дальше.
Несыгранная партейка
Девяностолетний немецко—русский генерал—интендант Недобитыш, теперь обыкновенный мафиозло, опекающий говяжий и кенгуровый промысел на восточных побережьях некоего какого—то моря, и проживающий ныне в самостоятельном от бриттов государстве Австралия, в многоэтажном, донжонистом замке на вершине купленного обломка компактной горной гряды. Скала, в свою очередь, располагается на острове Татч, что находится в оптимальной удаленности – то есть в шестнадцати морских милях от порта Аделаида.
Сообщение острова с материком обеспечивается исключительно на вертолетах, которых у скромного на психические выдумки генерала—пенсионера квартируется всего—то навсего три—четыре единицы. Все – дешевые стекляшки, кроме одного с маскированным под радиоантенну пулеметом и трехмиллиметровой бронью цвета бамбуковой стружки. И все хлопоты ради того, чтобы не вызывать у любопытных копов излишних подозрений в любви к малолетнему полу и к его трассирующим фейерверкам, попадающим отчего—то чаще всего в отбившихся от китовых стад желторотых беспризорников.
К нравственному департаменту после оснащения его новейшими компьютерными игрушками у генерала претензий совсем нет.
Недобитыш слыл добросердечным малым, в своём роде – размножистым Арлекином, наплодившим в своём родоместье десяток—другой девочек – Синеглазок и Мальвин и столько же смышленых мальчишек – Незнаек и Буратин, снятых как разлихой урожай с пяти любимых и гаремистых с виду жен, честно и дружно проживающих одной большой и беззаботной семьей.
С некоторых пор Недобитыш шибко недобрым словом стал отзываться о славнодостойном и живым ещё своём русском противнике по фамилии Гарькавый.
А до этого, объявив амнистию давнему военному противостоянию, Недобитыш удосужился пригласить его к себе в гости, обещая оплатить билет в одну сторону, обеспечить стопроцентное пожизненное иждивенчество и, по желанию, гарантированно обеспечить проживание в его замке на должности завхоза. На это он получил исчерпывающую по простоте текста телеграмму: «Пошел нах тчк».
В другой раз Недобитыш предложил Оселедцу Гарькавому сыграть партейку в шахматы по интернету. С одним условием, что если бы получилась ничья или победа Недобитыша, то вечная распря должна была стать забытой навсегда. Получил он аналогичный ответ. «Пошел в ик тчк». Только вместо вполне обоснованного русского «нах» почему—то был непонятное «в ик». Это было уж чересчур туманно, так как известно, что обычно посылают в «п», или на «х» но никак не в «ик».
Недобитыш отнес возникшую несуразицу на счет видоизменившегося за много лет русского языка.
Но тайный ларчик открывался, как всегда в детективах, по—другому и элегантно просто.
***
Гарькавый любил шахматишки грешным делом и ради этого, слегка покумекав и одурачив глуховатую супругу, прихватил денежный запас, сколоченный на грядущие похороны, и, наплюя на войну, решил партейку все же таки отыграть. В телеграмме слово «ик», по мнению небогатого бывшего партизана, должно было даже для хилого умом изображать сокращенно «интернет—клуб». «ИК» в родном под—Иванофранкивским селе, – что в предгорьях краснопартизанских Карпат, – находился только на крытом базаре имени Мыколы Васылынюка – главаря сибирской банды золотоперевозчиков времен послегражданки, в сыроватом подвальном помещении. То был бывший туалет, подрезаный частично за ненадобностью писанья—каканья покупателями (эти все дела частным лицам якобы надобно совершать дома), но частично сохранивший прежние ароматы и соответственный имидж.
В интернет—клубе с Гарькавого потребовали индивидуальный клиентский ИП—адрес, чтобы перечислить счет на него за скайп, без которого Оселедец просто не сможет существовать, и вообще не понятно, как это без скайпа он ещё живой.
В это время в клубе сломалась динама и погас свет. Послышались крики и ругань клиентов.
У кого—то улетел курсовик, кто—то не успел закачать порно на флэшку, кто—то потратил два ура на розыск нужного мыла, а тут все пропало гаком, а он не успел заклепать в компьютер.
Кто—то, самый крикливый, почти дошел до верхнего уровня и теперь надо было начинать с начала, а это ещё никому не удавалось, кроме него, а у него ещё было целых пять секунд в запасе, враг уже был на прицеле и со спины. – Кто теперь ему поверит?
Девочка разговаривала по интернету с мальчиком и должна была ответить на важнейший вопрос: «я тиба хотцу а ты са мной будисш ыбстыса?». Теперь он подумает, что она ыбстыса не хочет и уйдет к другой. А она может ыибстыса не лишь бы как, а всяко и разнообразно. У таджикского малчыка – с его слов —богатый родитель за границей. А у малчыка сифон и крышка от унитаза в общежитии.
И так далее. Динама попортила много судеб в тот вечер.
Что означал весь этот водопадный поток современных слов, Оселедец Гарькавый так и не понял. И потому, растопырив руки, скребя по вонючим голышовым стенкам, вышел по стенке наружу.
Рюмку коньяка он хлобыснул в пивнушке «Изба—читальня». Что слева. – Харный напиток!
Поглазел на развешанные по стенам экспонаты времен советско—украинского быта, потрогал за ручки самовар и подергал за выпуклые усища всих славных запорожцив, что сочиняли в толпе таких же гарных молодцив письмо султану—паше.
– Ни одной медали с войны! Ступку не вспомнили, а как он Бульбу сыграл. Это что за портрет? Неужто Степка? Оселедец плюнул в Степку, за что получил первое предупреждение от обтрепанного рябого панка с торчащей конской гривой, кожаном на хряпке и выгравированным на лбу трезубцем. Панк улетел к стенке, а прислонившись небритой щекой к плинтусу, тут же блаженно заснул.
– Медь самоварная не чищена.
Почитал старинные газетки – «Правду» и «Комсомольца» на украинском языке.
– Есть ещё смелые люди в хохляндском королевстве.
Сплюнул. – Демократия. Все уживаются нормально. Никакой стихии. За что русские на нас так злы? Крыма жалко? Нахрен им Крым. Корабли есть и хватит. Аренду продлим. Защищать наше море не надо. Сами как—нибудь с НАТОй отобъемся от турка.
На чай Оселедец тратиться не стал, а снова повторил коньячку.
На выходе треснул в глаз шумного и оборванного молодого русского проходимца с осоловелыми глазами и мешавшему прочему народу держаться за перила.
Тот подмигивал, будто нервный и все выпрашивал какой—то дури. – Дядя, дядя, – твердил он, прыгая бровями и поправляя гипсовый ошейник, – я знаю город будет, я знаю саду цвесть, когда такие маки в твоей оградке есть…
Лежа, и размазывая грязь по лицу, он пел уже другую, революционно—юродивую песню про кулака—богача, к которому скоро придёт расплата за гибель Павлика Морозова, и где вместо мака вторым героем рисовался чеховский крыжовник.
Треклятый костыль его за поломанной ненадобностью лежал в стороне.
Гарькавый ушел с базара, ошеломленный уличной и внутренней теперешней жизнью, далеко ушедшей с тех пор, как он в последний раз был на рынке; ушел, несолоно хлебавши, в плане шахматишек по интернету, зато сэкономив на том половину погребальных деньжищ – своих и старухиных.
***
Недобитыш допытываться до врага дальше не стал. Партейка так и не была сыграна. Все прошлые обиды дополнились ещё одной – уже современной и, похоже, на все оставшиеся времена.
– «ИК», вот тебе «ИК»! Бабах! Вот тебе. Тресь – в район груши, где должен бы находиться прищуренный шрамом глаз Гарькавого.
Недобитыш неплохо боксировал левой. Правая осталась лежать на краю полевого аэродрома, срезанная злодейским осколком в сорок пятом году. Во время посадки на фоккер—вульф, присланный для эвакуации штаба, по их отряду партизаны открыли огонь. И, кажется, в толпе партизан мелькало командирское лицо Оселедца Гарькавого.
– Герр Матиус! Эй, где Вы там?
Подбежал Матиус Корнелиус. Мафиозло Недобитыш попросил связать его со спортотделом Сатурна в Мюнхене.
– Закажу грушу с лицом этого сволоча Оселедца и буду по нему каждый день колошматить левой. И ногами.
***
Малёхин поступок был разобран по полочкам: его батей – Ксан Иванычем – в домашнем архитекторском кабинете—кухне, закончившимся, к Малёхиному фарту, без участия ремня, – в таком возрасте ремень обозляет, – и ограничился он всего—лишь легким устным отцовским порицанием. Значительно позже – в первый же день каникул предпоследнего класса – деяние Малёхи было проанализировано злопамятными мальчиками и девочками в школьном, специально отключенном от электричества сквере, что за памятником Органикидзе, методом русского Линча (что означает: – в темную, но без одеял; в одетом виде, но без колпаков). После того «скверского» анализа Малёха от горя и обиды бросил курить траву и временно перешел на сигареты.
Кирьян Егорович 1/2Туземский – простой констататор всей этой истории с путешествием. В случае на французской барже он даже не имел диктофона – сдохли батарейки. Работали бы батарейки – все могло бы кончиться по—другому. Кого такого другого он хотел бы напугать Чеком—и—Хуком, если он пишет книгу для одного человека – именно для его товарища – Порфирия Сергеевича Бима? Да никого, даже самого Бима. Бим видел, Бим все знает. Знает он почти что с самого начала, а именно с мотеля под Казанью, где впервые в жизни нечаянно попробовал дури и когда на него наехал паровоз с голыми бабами. Но Бим решил сам, без всяких подсказок со стороны Кирюхи Егоровича, что в рот воды наберет. А вот все несостоявшиеся читатели и читательницы уже давно опуганы и увлечены телевизором, и им это книжное завлекалово совершенно безразлично.
Может, с точки зрения наивного Туземского, крокодил в качестве героя, это и есть тот самый настоящий хоррор, которого так не хватает русской литературе и он решил поддержать традиции? Может оно и так. Но, отчего же тогда этот самый крокодил – так некровожаден, словно невинная вырезка из одноименного журнала советского периода истории, отчего не пьет и не курит, не лезет в драки, не насилует заблудившихся в Африке детей, отчего так аккуратен в быту, модно обут—одет, складно выражается и политически корректен, занимаясь только поддержкой сознательности таких пустоватых нашенских в доску путешественников, словно с цепи сорвавшихся в заграницу?
На взгляд каждого состоявшегося самиздатовского критика, а их тысячи, дорогие читательницы, это вовсе не хоррор, а наивная, сентиментальная и дешевая подделка. Плакать хочется от такой литературы!
За настоящим хоррором, – советует автор, – обращайтесь в Самиздат! Те же – критики. Они же и жанровики.
Хоррора в самиздате почти – что столько же, сколько и херровой прозы.
Полновесного – живее всех живых – хоррора, достаточно в нашей с вами автобиографической действительности. Хоть в доярочьей, хоть в дамской.
***
Извратимся ещё.