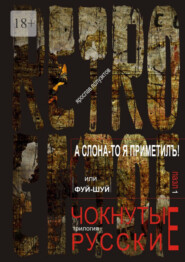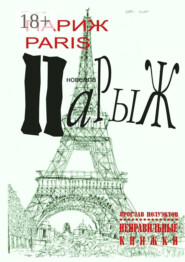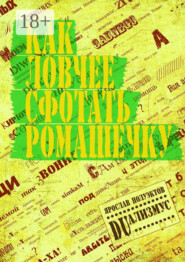По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
За гвоздями в Европу
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Никто не понял про связь гвоздей и синего золота. Ну и слава богу.
– Как—то даже не задумывался, хоть и ездил на бричках неоднократно… – сказал задумчиво Чехов. – Судьей? …Не пробовал этой профессии, я всё как—то больше по диагностике, по журналистике могу, пишу помаленьку разное… Читает народец крамолу. Удивительный у нас читатель: зубы ему лечить некогда, в дырки вставляет сигареты, чтоб красоту с пользой совместить, в эмаль всверливает бриллианты, а…, кстати, у вас тут есть пианино или флейта?
Чего хотел Чехов от пианино никто не понял, тем более слушать его неизвестные музыкальные произведения. Может хотел сыграть романтический текст на клавишах водопроводных струй и опередить нового Блока?
– Думайте, да, – перебивает Чехова Чен Джу. – Пианины тут никакой нет и за ним не пошлем, а мое слово – цемент высшей марки. Но, вот, извините, я возвращаю нас к нашим баранам, дас—с. Вот как же так получается, уважаемый Антон Павлович? Дорогой! Я прямой человек, я ценю ваше и своё время и, уважая Вас, юлить и подмыливать не буду: вы, черт побери, даете пятьдесят пять процентов под доверие, приносите какие—то результаты анализа. Про свою мочу и её обильное истечение я знаю лучше вашего, простите за резкость. Я просил совершенно другого. Заберите пробирку с собой: зачем вы её вообще с собой носите? Коллекцию составляете от знаменитых людей? Я ещё не знаменит и не знаю, буду ли когда—нибудь знаменитым и любимым. (Любимов, листнув страницу, улыбнулся) Да уж. И поискал в портфеле пистолет. Пистолет нашелся в боковом кармашке среди мокрых салфеток с пьянки месячной давности. Он слегка пованивал краснопротухшей икрой, и, вдобавок, оказался незаряженным. – Та—ак! Куда же я пули дел? Последнюю потратил на… Ах, забыл. Ну как же! А предпоследнюю? А, у меня же счет за расстреляные зеркала в Ермоловке не оплачен…
Чен слегка призадумался: «Или выкиньте её. Лефтина, возьмите, пожалуйста, у Антона Павловича пробирку, выкиньте её нахрен, только не разбейте. Ещё духа Хоттабыча нам не хватало. Так и кондиционер сгорит. Ну, так, сударь, мне нужен диагноз, понимаете. Бу—маж—ка такая. С печатью. Именно с печатью, а не рецептик с каракулями. Где она?»
Чехов задумался, понурил голову, снял, протер и вновь нацепил пенсне. – Нету бумажки, кончились все, разбираюсь пока. Вспомогните с целлюлозой!
– Лефтина, выдайте господину Чехову пачку бумаги.
– А?
– Белоснежку ему, говорю, дайте!
– Это дело тонкое, – продолжил Чехов, не особенно обратив внимание на презент, но, тем не менее, засунув пачку в потертый саквояж и звучно щелкнув никелем замка. – Ну, как бы это Вам ловчее пояснить… с бухты—барахты тут…
– Вот сами же сознаетесь. Вы великий специалист, гений, – продолжает философствовать Чен Джу. – Не будучи мальчиком, простачком, понимаете, о чем речь. …И я ещё, зная сам – кто я есть, не имея бумажки с печаткой, буду выпрашивать у вас остаток Вашего долга передо мной …в сорок пять страниц всего? На колени встать? Простите, но это, сударь, невозможное дело—с. Ептыть, да я от рожденья классикс с тремя «с» в конце. Это добавляет вкуса—с. А с Вами относительно «с» вполне согласен и для того времени тоже. Все добавляют «с». Во все времена. Только в наше время с ироний, а Вы – с наивной честностию. Я это разумом и чувством, понимаете, испытываю. Но я по ходу дела добавляю новаций. В этом разница. Обрезаю слишком уж старорежимные лишки. Жеманные они. Убавляют мужество. Время новое, понимаете? Все солдаты жизни. Скорострелы. Любовь нынче не в почете…
– Да уж! Это зря…
Всё, как в сценарии Ревизора: «Зря, зря».
– Хвалят вот этого гражданина, – тут Чен показывает на Пушкина, – Белинский, вот, в него втюрен. А «эс» вы сами не смогли упразднить. Так время, батенька, само много чего упразднило, а чего добавило, то никому у ваших не снилось даже. Скоро живем, торопимся. Отсюда вся дурь, матёрщина, говно. Ценности нынче другие. И продукт жинедеятельности тоже другой.
– Ох, ты! – удивляется Пушкин, сам в юности – изрядный шутник, – и чем же народонаселение нынче, извиняюсь, срет? Чем дышит в современной унитазной уборной? И почто упразднили схождение во двор? Там как—то и мечтается даже лучше, во время живого процесса—то.
– Я добавляю специи такие. Я возвращаюсь к литературе. Не к туалетной вони, хотя вопрос, конечно, интересный. …Вовсе не такой уж юродивый. Я добавляю «дурки». Злые смешинки такие. Для ощущения. Не для потрафки публике, себе, от души и для души. Мир не стоит на месте. – Разгорячился Чен Джу жутко. И готов Чехова скушать. – А вы мне вдвоем пишетесь тут… За набросок просите зарплату, это что, Ъ, за дела? Не успеваете – пишите ночью. Я эскизик и без вашего смогу накидать… Мне расторгнуть с вами договор….как… ну, понимаете ли, как в снег накропить.
Понимает Антон Павлович, и соглашается с ним Пушкин, что, не умея поссать вот так запросто в снег, он не смог бы пробиться в этой долбаной и бандитской стране; и в это время слишком много нахлебников, издателей—шкуродеров, писателишек разных, засасывающих в себя иную альтернативную литературу как засасывает продукты деятельности человека бездонный канализационный прибор. Слово специальное придумали для оправдания: «альтернативная литература», блинЪ…, ну и что это за явление такое?
– Всё, что необыкновенное, то и есть альтернативное. Поперечное то есть. Несоглашательское с запахом ёрничанья. «Бег» в стихах. Баловство и онон букв с отсутствием здравого смысла… и вообще без всякого смысла, – вдруг выпалила Алефтина будто из автомата совсем несвойственное всем крашенным в белокурое.
– Молчи уж, – осаживает её Чен. – Не пристало стенографисткам о высоком ононе рассуждать. Подрасти ещё надо умом и гражданской позицией.
– В эту, как три буквы войдут, сразу всё забывает. Шалава с лицом праведницы.
Обиделась Лефтина. Как кошка затаила злобу на время. Стала сравнивать три буквы Чехова с окружающим алфавитом. Весь алфавит оказался мелок по сравнению с тремя буквами признанного писателя.
Приподнимает себя выше всего вишневого садика и шире всемирных татарских хлябей самовосхваленец Чен Джу. – Если что, то, звиняйте, ради бога, но мне ваших сорока пяти не надо, честно. Да и эти начальные… хотите сразу верну? – говорит он весьма нелицеприятную вещь великому классику Антону Павловичу.
Чехова, так же, как и большинство просвещённого русского мира, Чен, ну, конечно же, ценил выше всех остальных писателей, но только при Пушкине он этого ему никогда не скажет. Зачем обижать многодетного коллегу, которого, между прочим, должны грохнуть на днях. И чужих процентов ему тоже не надо.
Но всё равно Чену приятно. Слеза родственности, сама собой примазавшаяся к славе Чехова и Пушкина, засела в уголку правого ченовского глаза. Пушкин очередной раз поднял с полу платок, успев мимоходом задержаться взглядом под юбкой Лефтины, обтер его об штаны и протянул Чену Джу. То ли он чего—то не понимал, то ли так оно и есть, но он не заметил под короткой юбкой никаких дамских выкрутасов, кружевных подложек, да и сами панталончики вроде бы отсутствовали. Про стринги у нынешних дамочек ему никто не удосужился разъяснить.
Классик—гений, поэт—родоначальник и директор по производству литературных солянок обнялись; и выпили они для плавности беседы по пивку.
– Не такой уж куёвый напиток, – сказал осовременившийся на некоторый промежуток Пушкин – тот час же после осушения восьмого бокала.
Пиво сближает. Пиво расслабляет и вытягивает из людей правду внутренностей наравне со здоровьем всех поколений.
– Бэк энд ю эсэсэо[26 - Я еду в Советский Союз.]. Лучше бехеровки, – похвалился Чен Джу.
– Водка пользительней будет, – сказал огромный и ледящий Антон Павлович, при этом зорко поглядывая на Лефтинку. Потом придвинул голову к уху Пушкина: «Его телка? На каком месяце?»
– Сам об этом думаю. Понять покамест не могу. И зачем Вам это, для нового романа века? Как двадцатый век переёбся с девятнадцатым?
– Лефтинка, а принесите – ка нам вот тот экспериментальный образец, что мы в последний раз изготовили, – говорит Чен. – Это попробуйте. Ну и как? Это у нас народный напиток на основе перекипяченной солянки с верхним брожением и без катышков.
– Есть букет, – говорит Пушкин, попробовав пенку. – Но не хватает лука—порея.
– Шибает здорово, – вымолвил Чехов, только нюхнув издали. От запаха ченовского напитка закружило его голову. – Даже без порея хорошо. Буду. Хочу.
– С волками пить – по—русски выть. А порей – вон он отдельно, в тарелке, – объяснил коллегам новый принцип приготовления русской похлебки Чен Джу, и приготовился всплакнуть от умиления.
К правому глазу Чена, – как объясняет интересующимся критикам лечащий профилактик Антон Павлович Чехов, – подведен слишком чувствительный нерв. Левый глаз у него не то, чтобы не был солидарен с правым, но обладает меньшей чувствительностью. И поэтому известнейшая цитата Чена Джу «…левый глаз не дрогнул, а как—то подозрительно прищурился. Больше всего этот прищур походил на подмигивание, предназначенное для глаза правого. – Не слишком там задавайся, мол, не всё так очевидно, – словно говорил глаз левый» – это всецело может быть врачебной правдой.
– Называется феномен косоглазием. – Это исследователи.
– Хорошо хоть, что не куриной слепотой, – думает в ответ Чен Джу.
– Вполне имеет место быть наступление полной слепоты при таком стечении параллельных физиологий. Полный крах, понимаете! Писать надо проворно, пока тонки очки. Не скулить, резать матку. И только днём.
Словно услышав Чена, советует ему врач—доброжелатель и неловко прячет в карманчик скромное золотое пенсне с бриллиантовым винтиком на переломе, соединённое цепочкой с карманными по—швейцарски часами.
– А я вот с мужиками в экспедицию собрался, – промолвил Чен, притворившись на минутку Туземским. – Еду в Европу.
– Слышали, знаем, – говорит Антошка.
– Не собрался, а вознамерились, – поправляет его Саня Пушкин.
– А хотите, поехали с нами, – предлагает Чен обоим классикам.
– Не поехали, – я бы написал так: – «поедемте». – Скромно, но с уверенностью в голосе говорит Чехов. – Я бы, может, согласился, только мне завтра на Сахалин.
– Ну, ты, брат, даешь! – вскричал Туземский Кирьян Егорович – он же временный Чен Джу, или наоборот.
– И какой же у вас там теперь год? Поди, ещё «Мужиков» не начал? А как же свадьба на Эйфеле?
– Какое там «Мужиков», застрял на «Дуэли». Лаевский трудно дается, гад. После «Степи» всё кувырком. Все герои какие—то новые, малоизученные. Городскую природу не очень люблю. Договора нет, а всё чего—то лучшего ищу на одном месте. Не моего завода коленкор. Лучше б сверху придавили… Жалею своих излишне, линию предлагаю, а они как ужи выскальзывают и по бабам, и по бабам. Юбки, любовь, на жалость жмут—с, я им… А у вас—то в двадцать первом веке любовь—с есть? А почта—с?
Чен Джу: «Первого нет, а второе только для официальных бумаг. Натуральные подписи по интернету не перешлешь».
– …Как же без почты в любви, с—сударь? – удивляется Антон Павлович и ворчит. – Ну и культура—с. Во что превратили Россию! Мужики – они и есть… хоть президенты, хоть конюшенные. …Эх, директора, ити нашу мать—Россию! Эпистолярию загубили, а это, между прочим, начало всякой тренировки. И начинать надо с детства. Да, с детства—с! Потом будет уже поздно: чистота чувств исчезнет, запахов не будете ощущать и всё такое подобное, дас—с.
– Епть! – вскричал африканским голосом Александр Сергеевич, перебивая Чехову колени на подходе к мертвенно—туманному будущему эпистолярной литературы. – Дуэль, дуэль!