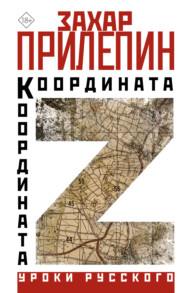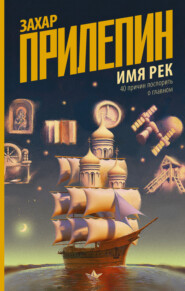По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Черная обезьяна
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Их вызвали по рации.
– Внимательно, – сказал Филипченко, хотя положено было говорить “На приёме!” или “Пятнадцатый слушает!”.
Девушка с приятным голосом назвала адрес и пояснила:
– Женщина из соседнего подъезда позвонила, говорят, что там вроде бы драка сразу в нескольких квартирах. Сходи посмотри. Участковый подойдёт, если будет нужен. Звонившая была пьяна.
Поспешая, стажёр, конечно, отметил про себя, что дежурная обращается к Филипченко в единственном числе, словно никакого стажёра с ним рядом и не было в природе.
Дом выполз к ним серым боком. Филипченко резко встал, стажёр ткнулся ему в плечо, потом шагнул вбок и стал пристально глядеть на окна. Одно из них погасло.
Филипченко даже, кажется, принюхивался.
– Пойдём? – стажёр как будто хотел сказать: а чего ждать-то, дом как дом.
Филипченко не ответил, ещё раз шумно, как конь, втянул в себя воздух и нехотя пошёл. Пихнул входную дверь, она издала пронзительный скрип.
– Заорал кто-то, – Филипченко попридержал дверь; стажёр опять ткнулся ему в спину, съездив носком по пятке старшинского ботинка.
– Что ты всё время висишь на мне, – Филипченко резко, неразмашисто, но больно ударил стажёра локтем в дыхалку.
Стажёр обиженно шагнул назад, и Филипченко вдруг упал ему на грудь, на руки, удивительно тяжёлый и пахнущий потным затылком и чем-то смешно хлюпнувший, а потом засипевший с присвистом.
Стажёр пытался было Филипченко удержать, но соскользнул со ступеньки и упал на спину, ударившись затылком, – и ещё в падении он видел, что в горло, под челюсть, Филипченко воткнут какой-то предмет вроде копья… откуда тут копьё?.. кочерга, что ли, какая-то.
Из подъезда выскочило несколько недоростков с какими-то вещами в руках… игрушки, что ли?
“…куда ж они играть вечером?.. – спешно подумал стажёр. – Вот босота… Спать пора…”
У одного был молоточек, почти как настоящий. У другого… топорик, что ли… мать стажёра обухом такого, тоже казавшегося игрушечным, отбивала мясо.
Если попадалась кость, раздавался твёрдый, со взвизгом звук.
* * *
После того как ударился головой, я могу себе нафантазировать всё что угодно.
Потом живу и думаю: это было или это я придумал?
Таких событий всё больше, они уже не вмещаются в одну жизнь, жизнь набухает, рвёт швы, отовсюду лезет её вновь наросшее мясо.
Этим летом, когда на жаре я чувствую себя как в колючем шерстяном носке, даже в двух носках, меня клинит особенно сильно.
– Аля, – сказал в телефон, выйдя во двор, – поехали в город Велемир?
– Ой, я там не была, – сказала Аля, и было не ясно: это отличная причина, чтоб поехать, или не менее убедительный повод избежать поездки?
Я помолчал.
– А зачем? – спросила она.
– Расскажу тебе по дороге какую-нибудь историю, – предложил я. – У меня с дорогой на Велемир связана одна чудесная история.
Всего за несколько лет живых душ в доме, где обитал маленький я, стало в разы больше.
Первым появился щенок Шершень.
Следом пришли особые чёрные тараканы, пожиравшие обычных рыжих, четырёхцветная кошка Муха, еженедельно обновляемые рыбки, лягушки в соседнем аквариуме, белый домашний голубь редчайшей, судя по всему, породы – он был немой.
Ещё залетали длинноногие, никогда не кусавшиеся, будто под тяжёлым кумаром находившиеся комары и громкие, как чёрные вертолёты, в хлам обдолбанные мухи с помойки.
Летом обнаруживались медленные, кажется собачьи, блохи, привыкшие к шерсти и не знающие, что им делать на голых человеческих коленях, но их вообще не замечали: они сами вяло спрыгивали на пол к чёрным тараканам и весёлой Мухе.
Шершень был дворнягой, умел улыбаться и произносить слово “мама”. Зимой, если его обнять, он пах сердцевиной ромашки, а летом – подтаявшим пломбиром.
Щенком Шершень был найден возле мусорного контейнера и перенесён в дом; безропотная мать отмыла попискивающее существо, умещавшееся в калоше. Год спустя калоши впору было надевать на лапы плечистому разгильдяю. “Мама” он произносил, когда зевал, – как-то по-особенному раскрывалась тогда его огромная чёрная пасть, и издаваемый звук неумышленно и пугающе был схож с человеческим словом.
Муха обнаружилась на середине скоростной трассы, куда я, увидев остирок шерсти вдоль ничтожного позвонка, добежал на трепетных ногах, передвигаясь посередь тормозного визга и человеческого мата. У неё были повреждены три лапы, она двигалась так, будто всё время пыталась взлететь, подпрыгивая как-то вкривь и вверх. Я поймал её на очередном прыжке и прижал к груди.
Шершень принял Муху равнодушно, он вообще ленился бегать за кошками. Зато он очень любил лягушачье пение. Лягушки поначалу жили у дочери нашей соседки, но соседка была алкоголичкой и средств на прокорм животных чаще всего не имела. Сначала мы слушали лягушек за стеной, потом террариум был перенесён к нам на кухню. Говорят, что лягушки орут, когда готовятся к брачным играм, но эти голосили куда чаще. Возможно, пока они обитали в семье алкоголиков, они кричали от голода. Затем просто по привычке или от страха, что их вновь не накормят. Из всей нашей семьи лягушачьи концерты любил только Шершень. Он приходил на кухню и подолгу смотрел в террариум, иногда даже вставая передними лапами на подоконник.
Обитатели террариума умели издавать звуки на удивление разнообразные: они квохтали, курлыкали, кряхтели, тикали, как часы, стучали, как швейная машинка, в голос зевали, немного каркали и даже тихонько подвывали. Казалось, что Шершень разбирает их речь и разделяет лягушачью печаль. Иногда, слушая лягушек, Шершень тихо улыбался. Улыбаться он тоже умел.
Муха в это время ловила и поедала чёрных тараканов, а также рыжих, ещё не убитых чёрными.
Ещё она с удивительной грацией сшибала на лету огромных мух, обрывая их зуд на самой противной ноте. Но этим зрелищем она удостаивала членов семьи крайне редко – охотиться на воздухоплавающих Муха любила в одиночестве. Мне несколько раз удавалось подглядеть, как, затаившись на спинке дивана, Муха неожиданно делала пронзительный прыжок и убивала влёт чёрный помойный бомбардировщик.
Однажды мы уехали за город, Муху, не вовремя отправившуюся на прогулку, найти не смогли, оставили открытой форточку и насыпали ей разнообразной еды в большую кошачью тарелку. Когда вернулись через неделю, пол был усеян мухами, их было больше сотни.
Представляю, что там творилось всё это время, какое побоище…
Рыбки Шершня не волновали, зато Муха периодически нарезала круги близ аквариума.
Добраться до чешуйчатых она так и не смогла; рыб мы сами загубили. Купили на рынке какого-то мелкого блестящего пузана, с ноготь ростом, ну, чуть больше. За ночь эта пакость сожрала, кого успела сожрать, остальных изуродовала, самая большая особь по прозвищу Мексиканец пыталась избежать общей участи, волоча за собой нежные кишки.
Я снял крышку с аквариума и запустил на кухню Муху. Через пару часов аквариум был пуст.
Белый голубь в это время сидел на шкафу и молча смотрел в сторону. После случая с рыбками он покинул наш дом.
В тринадцать лет мне страшно захотелось собаку, как в кино про Электроника, “а, мам?”.
Мама вроде и не против была, но по-доброму сказала, что две собаки – это много, у Шершня был аппетит как у душары, а выглядел он как хороший дембель.
Я затаился. В ту минуту во мне поселился взрослый человек, тать, подлец и врун.
В страсти по новому псу Шершня я разлюбил. От его “мама” меня всего кривило.
Однажды собрался и, весь покрытый липким ледяным потом, отправился с ним на вокзал, купил билет до какой-то, напрочь забыл какой, станции Велемирского направления.
– Внимательно, – сказал Филипченко, хотя положено было говорить “На приёме!” или “Пятнадцатый слушает!”.
Девушка с приятным голосом назвала адрес и пояснила:
– Женщина из соседнего подъезда позвонила, говорят, что там вроде бы драка сразу в нескольких квартирах. Сходи посмотри. Участковый подойдёт, если будет нужен. Звонившая была пьяна.
Поспешая, стажёр, конечно, отметил про себя, что дежурная обращается к Филипченко в единственном числе, словно никакого стажёра с ним рядом и не было в природе.
Дом выполз к ним серым боком. Филипченко резко встал, стажёр ткнулся ему в плечо, потом шагнул вбок и стал пристально глядеть на окна. Одно из них погасло.
Филипченко даже, кажется, принюхивался.
– Пойдём? – стажёр как будто хотел сказать: а чего ждать-то, дом как дом.
Филипченко не ответил, ещё раз шумно, как конь, втянул в себя воздух и нехотя пошёл. Пихнул входную дверь, она издала пронзительный скрип.
– Заорал кто-то, – Филипченко попридержал дверь; стажёр опять ткнулся ему в спину, съездив носком по пятке старшинского ботинка.
– Что ты всё время висишь на мне, – Филипченко резко, неразмашисто, но больно ударил стажёра локтем в дыхалку.
Стажёр обиженно шагнул назад, и Филипченко вдруг упал ему на грудь, на руки, удивительно тяжёлый и пахнущий потным затылком и чем-то смешно хлюпнувший, а потом засипевший с присвистом.
Стажёр пытался было Филипченко удержать, но соскользнул со ступеньки и упал на спину, ударившись затылком, – и ещё в падении он видел, что в горло, под челюсть, Филипченко воткнут какой-то предмет вроде копья… откуда тут копьё?.. кочерга, что ли, какая-то.
Из подъезда выскочило несколько недоростков с какими-то вещами в руках… игрушки, что ли?
“…куда ж они играть вечером?.. – спешно подумал стажёр. – Вот босота… Спать пора…”
У одного был молоточек, почти как настоящий. У другого… топорик, что ли… мать стажёра обухом такого, тоже казавшегося игрушечным, отбивала мясо.
Если попадалась кость, раздавался твёрдый, со взвизгом звук.
* * *
После того как ударился головой, я могу себе нафантазировать всё что угодно.
Потом живу и думаю: это было или это я придумал?
Таких событий всё больше, они уже не вмещаются в одну жизнь, жизнь набухает, рвёт швы, отовсюду лезет её вновь наросшее мясо.
Этим летом, когда на жаре я чувствую себя как в колючем шерстяном носке, даже в двух носках, меня клинит особенно сильно.
– Аля, – сказал в телефон, выйдя во двор, – поехали в город Велемир?
– Ой, я там не была, – сказала Аля, и было не ясно: это отличная причина, чтоб поехать, или не менее убедительный повод избежать поездки?
Я помолчал.
– А зачем? – спросила она.
– Расскажу тебе по дороге какую-нибудь историю, – предложил я. – У меня с дорогой на Велемир связана одна чудесная история.
Всего за несколько лет живых душ в доме, где обитал маленький я, стало в разы больше.
Первым появился щенок Шершень.
Следом пришли особые чёрные тараканы, пожиравшие обычных рыжих, четырёхцветная кошка Муха, еженедельно обновляемые рыбки, лягушки в соседнем аквариуме, белый домашний голубь редчайшей, судя по всему, породы – он был немой.
Ещё залетали длинноногие, никогда не кусавшиеся, будто под тяжёлым кумаром находившиеся комары и громкие, как чёрные вертолёты, в хлам обдолбанные мухи с помойки.
Летом обнаруживались медленные, кажется собачьи, блохи, привыкшие к шерсти и не знающие, что им делать на голых человеческих коленях, но их вообще не замечали: они сами вяло спрыгивали на пол к чёрным тараканам и весёлой Мухе.
Шершень был дворнягой, умел улыбаться и произносить слово “мама”. Зимой, если его обнять, он пах сердцевиной ромашки, а летом – подтаявшим пломбиром.
Щенком Шершень был найден возле мусорного контейнера и перенесён в дом; безропотная мать отмыла попискивающее существо, умещавшееся в калоше. Год спустя калоши впору было надевать на лапы плечистому разгильдяю. “Мама” он произносил, когда зевал, – как-то по-особенному раскрывалась тогда его огромная чёрная пасть, и издаваемый звук неумышленно и пугающе был схож с человеческим словом.
Муха обнаружилась на середине скоростной трассы, куда я, увидев остирок шерсти вдоль ничтожного позвонка, добежал на трепетных ногах, передвигаясь посередь тормозного визга и человеческого мата. У неё были повреждены три лапы, она двигалась так, будто всё время пыталась взлететь, подпрыгивая как-то вкривь и вверх. Я поймал её на очередном прыжке и прижал к груди.
Шершень принял Муху равнодушно, он вообще ленился бегать за кошками. Зато он очень любил лягушачье пение. Лягушки поначалу жили у дочери нашей соседки, но соседка была алкоголичкой и средств на прокорм животных чаще всего не имела. Сначала мы слушали лягушек за стеной, потом террариум был перенесён к нам на кухню. Говорят, что лягушки орут, когда готовятся к брачным играм, но эти голосили куда чаще. Возможно, пока они обитали в семье алкоголиков, они кричали от голода. Затем просто по привычке или от страха, что их вновь не накормят. Из всей нашей семьи лягушачьи концерты любил только Шершень. Он приходил на кухню и подолгу смотрел в террариум, иногда даже вставая передними лапами на подоконник.
Обитатели террариума умели издавать звуки на удивление разнообразные: они квохтали, курлыкали, кряхтели, тикали, как часы, стучали, как швейная машинка, в голос зевали, немного каркали и даже тихонько подвывали. Казалось, что Шершень разбирает их речь и разделяет лягушачью печаль. Иногда, слушая лягушек, Шершень тихо улыбался. Улыбаться он тоже умел.
Муха в это время ловила и поедала чёрных тараканов, а также рыжих, ещё не убитых чёрными.
Ещё она с удивительной грацией сшибала на лету огромных мух, обрывая их зуд на самой противной ноте. Но этим зрелищем она удостаивала членов семьи крайне редко – охотиться на воздухоплавающих Муха любила в одиночестве. Мне несколько раз удавалось подглядеть, как, затаившись на спинке дивана, Муха неожиданно делала пронзительный прыжок и убивала влёт чёрный помойный бомбардировщик.
Однажды мы уехали за город, Муху, не вовремя отправившуюся на прогулку, найти не смогли, оставили открытой форточку и насыпали ей разнообразной еды в большую кошачью тарелку. Когда вернулись через неделю, пол был усеян мухами, их было больше сотни.
Представляю, что там творилось всё это время, какое побоище…
Рыбки Шершня не волновали, зато Муха периодически нарезала круги близ аквариума.
Добраться до чешуйчатых она так и не смогла; рыб мы сами загубили. Купили на рынке какого-то мелкого блестящего пузана, с ноготь ростом, ну, чуть больше. За ночь эта пакость сожрала, кого успела сожрать, остальных изуродовала, самая большая особь по прозвищу Мексиканец пыталась избежать общей участи, волоча за собой нежные кишки.
Я снял крышку с аквариума и запустил на кухню Муху. Через пару часов аквариум был пуст.
Белый голубь в это время сидел на шкафу и молча смотрел в сторону. После случая с рыбками он покинул наш дом.
В тринадцать лет мне страшно захотелось собаку, как в кино про Электроника, “а, мам?”.
Мама вроде и не против была, но по-доброму сказала, что две собаки – это много, у Шершня был аппетит как у душары, а выглядел он как хороший дембель.
Я затаился. В ту минуту во мне поселился взрослый человек, тать, подлец и врун.
В страсти по новому псу Шершня я разлюбил. От его “мама” меня всего кривило.
Однажды собрался и, весь покрытый липким ледяным потом, отправился с ним на вокзал, купил билет до какой-то, напрочь забыл какой, станции Велемирского направления.