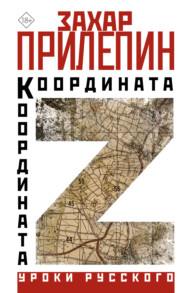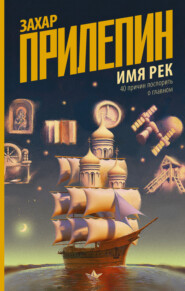По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Черная обезьяна
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ещё нет. Алька, – сказала она.
Она была вся такая как слива, которую хотелось раздавить в руке и есть потом с руки все эти волокна, сырость, мякоть.
– Ну. А ты кто? – Загорелая, щёки у неё – как настоящие щёки, а не просто так, кожа, губы сливовые, язычок маленький и, кажется, твёрдый, как сливовая косточка. – А?
Кто я, блядь, такой.
* * *
С чего начать: глаза, уши, печень, сердце. У всего своя биография, свои воспоминания, своё будущее, до определённого момента разное.
С какого места приступим, у меня ещё много мест.
Мы, ребёнок я и моя семья, жили в двухэтажном доме старого фонда, на самой-самой окраине столицы; отсыревший, гнилой, тяжёлый, полный копошащейся живности, дом был похож на осенний гриб.
На чердаке нашего дома жили голуби, очень много. Ночью было слышно: гурр, гурр, гурр – прилаживаясь спать, они разговаривали друг с другом на каком-то своём иврите.
Когда я просыпался, уже никто не гуркал, голуби улетали поклевать, побродить в лужах, поковыряться в семечках; в доме было тихо и очень солнечно. Сначала солнечно через закрытые глаза, потом прямо в открытые – как из ведра.
То есть последними засыпали уши, глазам уже было всё равно; а просыпались первыми глаза, уши ещё ничего не соображали, только хруст подушки, быть может.
Зверья в доме ещё не водилось, я шёл босиком к туалету, вот ещё один орган появился, доброе утро тебе.
Потом бегом в кровать – холодно, мурашки по детским лопаткам, большие, быстрые и рассыпчатые, как крупа.
По дороге несколько игрушек из деревянного ящика с собой в кровать – почему-то больше всего я любил белого пластмассового зайца с чёрными глазами, только его и помню до сих пор. Он был полый, в одном месте продырявленный, уши сросшиеся, стояли, будто султан на драгунском кивере, ещё усы такие – можно пальцем трогать, неровные, как старая болячка.
Заяц играл с другими игрушками – видимо, солдаты ещё были, большие, прямые, бестолковые. Почему-то мне было всё равно, что огромные зайцы воюют с солдатами, – никаких моих представлений о мире это не нарушало.
Наигравшись, вставал опять, включал телевизор, там было два канала, первый и второй.
Переключать программы надо было пассатижами, они лежали на столе возле.
Бывший переключатель тоже тут находился, расколотый на две части, отец никак не находил времени склеить, а может, и нельзя уже было склеить, но мать жалела выкидывать деталь.
В телевизоре показывали сельское хозяйство, краны, дирижёров, иногда врачей.
Сжимал пассатижи и щёлкал, пока не надоедало: дирижёр и трактор, скрипач и рожь, виолончель и комбайн…
После тракторов и скрипок хотелось есть.
На столе стояло молоко, в чёрной, прожжённой, как царь-пушка, сковороде лежали нежнейшие сырники – мама.
Стук в окно – знал, кто стучит, но всегда пугался в первые мгновения.
Стучал сосед, на год старше меня, звали Серый – а как его ещё могли звать? Также был Гарик, прибегал с другой улицы, весь в веснушках, на три года старше нас, лукавый, матершинник.
Гарик пел загадочно: “Чики-брики-таранте, чики-брики-таранте!”
Я тоже подхватил, привязчивая мелодия. Гарик сидел с веточкой в зубах.
– При взрослых не пой, – сказал тихо, когда вышла из подъезда соседка.
– А что означает “чики-брики-таранте”? – спросил я.
– Ебаться, – коротко ответил он.
Я ничего не понял. Посмотрел внимательно на соседку, примеривая к ней новое слово, и замолк.
Потом тихо глянул на глупое лицо Гарика и подумал, что он и сам не знает, о чём мне сказал.
Но это не Гарик стучал, он вообще ко мне никогда не заходил – он только к Серому, у родителей Серого был магнитофон, пацанва слушала по утрам всякие песни, когда Гарик прогуливал школу. Меня к магнитофону не подпускали: Серый страшно боялся его сломать.
Стучал, говорю, он.
– Пойдём голубей бить! – предложил Серый сразу. – Там уже Гарик сидит, на чердаке.
Спорить я тогда не умел, соглашался на любую замуту, брёл за старшими без всякой мысли в голове.
Пока я искал носки, но нашёл колготки, которые, пугаясь, что меня заметит Серый, скорей спрятал обратно в шкаф, дружок мой доел сырники и с чмоком вскрыл холодильник, так что внутри всё затряслось и задрожало, достал молоко. Выпил и молоко, потом я уже не видел, что происходило, а когда вернулся одетый, Серый снова жевал, сидя перед открытым холодильником на корточках.
Закрыли дверь в дом, ключ всегда лежал под половичком у входа – никого не боялись.
– Найди себе палку, – велел Серый, и я взял первую попавшуюся палку с земли. У Серого уже был припасён железный штырь.
Мы обошли дом – к ржавой лестнице, что вела на чердак второго этажа.
Дверь чердака неожиданно открылась, и оттуда вылез Гарик с голубем в руке; держа за ноги, он размахивал птицей, уже очумевшей настолько, что она еле шевелила крыльями.
Гарик, зацепившись одной рукой за лестницу, трижды, насколько мог сильно, ударил голубя об стену. Во все стороны, как из драной подушки, сыпанули перья. Голубь неожиданно ожил, стал бить крыльями, отчего перьев полетело ещё больше. Голова его дрожала и дёргалась, как поплавок. Голубь понял, что его голубиную жизнь нацепили на крючок – и сейчас извлекут наружу, как рыбу из воды.
Приблизив птицу к лицу, Гарик посмотрел на дело рук своих и с размаху подбросил голубя вверх – тот перекувыркнулся над нашими головами и с тупым звуком пал в траву. Попытался взлететь, трепыхнулся, шевельнул крылом, но ничего у него уже не получалось, он издыхал, раскрыв клюв, еле кивая головой.
– Давайте сюда, – позвал Гарик весело. – Их тут полно, нельзя выпускать.
Серый двинулся первым, я потащил себя следом, часто взглядывая на грязные подошвы дружка. Иногда с них сыпалось мне в глаза.
Гарик дождался нас. Запустив меня и Серого, воровато оглядел двор и соседние дома, затем прикрутил дверь верёвкой.
Чердак был пронизан белёсыми лучами из слуховых окон и просохшей насквозь в нескольких местах крыши. В лучах, от ужаса пугаясь взлететь, шевелились голуби. Некоторые были настолько пушистые и пышные, что напоминали ежей.
– Эх, бля-а-а! – заорал Гарик и, блея от радости – он так смеялся, – пустился чуть ли не в пляс по чердаку, разметая десятки ошарашенных птиц, ловя их за крылья, выворачивая им суставы и головы, топча и пиная.
Серый с серьёзным лицом работал прутом, и если попадал в летящую птицу – голубь замертво падал, неестественно вывернув крылья и топорща коготки.
Я изредка взмахивал руками, изображая, что занят тем же самым. Так, глупо трепыхаясь, я добрёл до другого края чердака, где присел возле одного затаившегося голубя. Он вжимал голову в туловище, казалось, ожидая удара и всё понимая.
Тут я вспомнил, что в руке у меня палка, несколько раз несильно тронул голубя палкой по спине. Он открыл и закрыл глаза, нахохлился, снова открыл и закрыл глаза, но не сдвинулся с места. Голубь готов был умереть сейчас же и тихо ждал этого.
Она была вся такая как слива, которую хотелось раздавить в руке и есть потом с руки все эти волокна, сырость, мякоть.
– Ну. А ты кто? – Загорелая, щёки у неё – как настоящие щёки, а не просто так, кожа, губы сливовые, язычок маленький и, кажется, твёрдый, как сливовая косточка. – А?
Кто я, блядь, такой.
* * *
С чего начать: глаза, уши, печень, сердце. У всего своя биография, свои воспоминания, своё будущее, до определённого момента разное.
С какого места приступим, у меня ещё много мест.
Мы, ребёнок я и моя семья, жили в двухэтажном доме старого фонда, на самой-самой окраине столицы; отсыревший, гнилой, тяжёлый, полный копошащейся живности, дом был похож на осенний гриб.
На чердаке нашего дома жили голуби, очень много. Ночью было слышно: гурр, гурр, гурр – прилаживаясь спать, они разговаривали друг с другом на каком-то своём иврите.
Когда я просыпался, уже никто не гуркал, голуби улетали поклевать, побродить в лужах, поковыряться в семечках; в доме было тихо и очень солнечно. Сначала солнечно через закрытые глаза, потом прямо в открытые – как из ведра.
То есть последними засыпали уши, глазам уже было всё равно; а просыпались первыми глаза, уши ещё ничего не соображали, только хруст подушки, быть может.
Зверья в доме ещё не водилось, я шёл босиком к туалету, вот ещё один орган появился, доброе утро тебе.
Потом бегом в кровать – холодно, мурашки по детским лопаткам, большие, быстрые и рассыпчатые, как крупа.
По дороге несколько игрушек из деревянного ящика с собой в кровать – почему-то больше всего я любил белого пластмассового зайца с чёрными глазами, только его и помню до сих пор. Он был полый, в одном месте продырявленный, уши сросшиеся, стояли, будто султан на драгунском кивере, ещё усы такие – можно пальцем трогать, неровные, как старая болячка.
Заяц играл с другими игрушками – видимо, солдаты ещё были, большие, прямые, бестолковые. Почему-то мне было всё равно, что огромные зайцы воюют с солдатами, – никаких моих представлений о мире это не нарушало.
Наигравшись, вставал опять, включал телевизор, там было два канала, первый и второй.
Переключать программы надо было пассатижами, они лежали на столе возле.
Бывший переключатель тоже тут находился, расколотый на две части, отец никак не находил времени склеить, а может, и нельзя уже было склеить, но мать жалела выкидывать деталь.
В телевизоре показывали сельское хозяйство, краны, дирижёров, иногда врачей.
Сжимал пассатижи и щёлкал, пока не надоедало: дирижёр и трактор, скрипач и рожь, виолончель и комбайн…
После тракторов и скрипок хотелось есть.
На столе стояло молоко, в чёрной, прожжённой, как царь-пушка, сковороде лежали нежнейшие сырники – мама.
Стук в окно – знал, кто стучит, но всегда пугался в первые мгновения.
Стучал сосед, на год старше меня, звали Серый – а как его ещё могли звать? Также был Гарик, прибегал с другой улицы, весь в веснушках, на три года старше нас, лукавый, матершинник.
Гарик пел загадочно: “Чики-брики-таранте, чики-брики-таранте!”
Я тоже подхватил, привязчивая мелодия. Гарик сидел с веточкой в зубах.
– При взрослых не пой, – сказал тихо, когда вышла из подъезда соседка.
– А что означает “чики-брики-таранте”? – спросил я.
– Ебаться, – коротко ответил он.
Я ничего не понял. Посмотрел внимательно на соседку, примеривая к ней новое слово, и замолк.
Потом тихо глянул на глупое лицо Гарика и подумал, что он и сам не знает, о чём мне сказал.
Но это не Гарик стучал, он вообще ко мне никогда не заходил – он только к Серому, у родителей Серого был магнитофон, пацанва слушала по утрам всякие песни, когда Гарик прогуливал школу. Меня к магнитофону не подпускали: Серый страшно боялся его сломать.
Стучал, говорю, он.
– Пойдём голубей бить! – предложил Серый сразу. – Там уже Гарик сидит, на чердаке.
Спорить я тогда не умел, соглашался на любую замуту, брёл за старшими без всякой мысли в голове.
Пока я искал носки, но нашёл колготки, которые, пугаясь, что меня заметит Серый, скорей спрятал обратно в шкаф, дружок мой доел сырники и с чмоком вскрыл холодильник, так что внутри всё затряслось и задрожало, достал молоко. Выпил и молоко, потом я уже не видел, что происходило, а когда вернулся одетый, Серый снова жевал, сидя перед открытым холодильником на корточках.
Закрыли дверь в дом, ключ всегда лежал под половичком у входа – никого не боялись.
– Найди себе палку, – велел Серый, и я взял первую попавшуюся палку с земли. У Серого уже был припасён железный штырь.
Мы обошли дом – к ржавой лестнице, что вела на чердак второго этажа.
Дверь чердака неожиданно открылась, и оттуда вылез Гарик с голубем в руке; держа за ноги, он размахивал птицей, уже очумевшей настолько, что она еле шевелила крыльями.
Гарик, зацепившись одной рукой за лестницу, трижды, насколько мог сильно, ударил голубя об стену. Во все стороны, как из драной подушки, сыпанули перья. Голубь неожиданно ожил, стал бить крыльями, отчего перьев полетело ещё больше. Голова его дрожала и дёргалась, как поплавок. Голубь понял, что его голубиную жизнь нацепили на крючок – и сейчас извлекут наружу, как рыбу из воды.
Приблизив птицу к лицу, Гарик посмотрел на дело рук своих и с размаху подбросил голубя вверх – тот перекувыркнулся над нашими головами и с тупым звуком пал в траву. Попытался взлететь, трепыхнулся, шевельнул крылом, но ничего у него уже не получалось, он издыхал, раскрыв клюв, еле кивая головой.
– Давайте сюда, – позвал Гарик весело. – Их тут полно, нельзя выпускать.
Серый двинулся первым, я потащил себя следом, часто взглядывая на грязные подошвы дружка. Иногда с них сыпалось мне в глаза.
Гарик дождался нас. Запустив меня и Серого, воровато оглядел двор и соседние дома, затем прикрутил дверь верёвкой.
Чердак был пронизан белёсыми лучами из слуховых окон и просохшей насквозь в нескольких местах крыши. В лучах, от ужаса пугаясь взлететь, шевелились голуби. Некоторые были настолько пушистые и пышные, что напоминали ежей.
– Эх, бля-а-а! – заорал Гарик и, блея от радости – он так смеялся, – пустился чуть ли не в пляс по чердаку, разметая десятки ошарашенных птиц, ловя их за крылья, выворачивая им суставы и головы, топча и пиная.
Серый с серьёзным лицом работал прутом, и если попадал в летящую птицу – голубь замертво падал, неестественно вывернув крылья и топорща коготки.
Я изредка взмахивал руками, изображая, что занят тем же самым. Так, глупо трепыхаясь, я добрёл до другого края чердака, где присел возле одного затаившегося голубя. Он вжимал голову в туловище, казалось, ожидая удара и всё понимая.
Тут я вспомнил, что в руке у меня палка, несколько раз несильно тронул голубя палкой по спине. Он открыл и закрыл глаза, нахохлился, снова открыл и закрыл глаза, но не сдвинулся с места. Голубь готов был умереть сейчас же и тихо ждал этого.