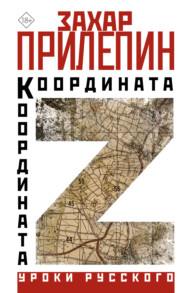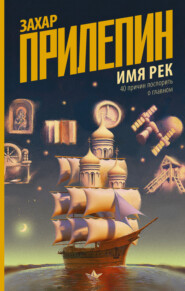По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дорога в декабре (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Выросший вне женщин, я воспринимал ее как яркое и редкое новогоднее украшение, трепетно держал в руках. И помыслить не мог – как бывает с избалованными чадами, легко разламывающими в глупой любознательности игрушки, – о внутреннем устройстве этого украшения, воспринимал как целостную, дарованную мне благость.
Вели себя беззаботно. Беззаботность раздражает окружающих. Нас, бестолковых, порицали прохожие тетушки, когда мы целовались на трамвайных остановках, впрочем, целовались мы не нарочито, а всегда где-нибудь в уголке, таясь.
Трогали, пощипывали, покусывали друг друга беспрестанно, пробуждая обезьянью прапамять.
Стоя на нижней подножке автобуса, спиной к раздолбанным, позвякивающим и покряхтывающим дверям, я гладил Дашу, стоящую выше, ко мне лицом, касающуюся своей большой грудью моего лица, – гладил мою девочку, скажем так, по белым брючкам. Она задумчиво, как ни в чем не бывало, смотрела через мое плечо – на тяжелые крылья витрин, взмахивающие нам вслед, на храм в лесах, на строительные краны, на набережную, на реку, на белые пароходы, еще оставшиеся на причалах Святого Спаса. Покачиваясь во время переключения скоростей, я видел мужчину, сидевшего у противоположного окна, напротив нас, он держал в руках газету. В газету он не смотрел, он мучительно и предельно недовольно косился на мои руки или скорей на то, чего эти руки касались.
Сидели в парках на траве, покупали на рынке ягоды, просили рыбаков на пляже фотографировать нас. И потом, проявив в ателье, разглядывали эти фотографии, удивляясь неизвестно чему – своей нестерпимой юности.
Любящие – дикари, если судить по тому, как они радуются своим амулетам.
Дикари, знающие и берегущие свое дикарство, мы не ходили в кинотеатры, телеви не включали, не читали газет. Мы обучались в некоем университете, на последних курсах, но и занятия посещали крайне редко.
Дурашливо гуляли и возвращались домой. Выходили из квартиры, держась за руки, а обратно возвращались бегом – нагулявшие жадность друг к другу.
Ее уютный дом, с тихим двориком, где не сидели шумные и гадкие пьяницы и не валялись, пуская розовую пену передозировки, наркоманы; с булочной на востоке и с громыхающим железными костями трамваем на западе; на запад выходили окна на кухне, и, когда я курил там весенними и летними утрами, мне часто казалось, что трамвай въезжает к нам в окно.
Иногда от грохота начинали тихо осыпаться комочки побелки за обоями.
В некоторых местах обои были исцарапаны редкого обаяния котенком, являвшим собой помесь сиамского кота нашего соседа сверху с рыжей беспородной кошкой соседки снизу. Он появился в доме Даши вместе со мной. Котенка Даша назвала Тоша, в честь меня.
Часто мы лежали поперек кровати и смотрели на то, как Тоша забавляется с привязанной к ножке кресла резинкой, увенчанной пластмассовым шариком.
Иногда он отвлекался от шарика и с самыми злостными намерениями бежал к углу стены возле батареи, где лохмотьями свисали обои.
– Брысь! – кричала Даша. – Брысь, стервец!
Я стучал по полу уже разлинованной когтями котенка рукой, чтобы спугнуть Тошу. Он оборачивался и с удовольствием отвлекался на то, чтобы полизать свой розовый живот.
– Обрати внимание, – говорила мне Даша, притулившись грудью у меня на спине и проводя ладонью мне по темени, – кошки и собаки могут лизать свои половые органы. А человеки – нет. Выходит, что Бог специально подталкивает людей к запретным ласкам…
– Едва ли, имея возможность, я стал бы забавляться сам с собой подобным образом, – отвечал я, блаженно ежась всем телом.
Даша при мне иногда читала вечерами – мне всегда казалось, что из хулиганства. Я старался отвлечь ее.
– Как книга? – спрашивал я Дашу.
– Мысли короче, чем предложения. Мысли одеты не по росту, рукава причастных оборотов висят, как у Пьеро.
И снова начинала читать. Ложилась на живот. Она так играла. Ждала, что я ей помешаю.
Подлезал ладонями под ее животик, находил верхнюю пуговицу джинсиков, медленно расстегивал молнию. Крепко цеплял пальцами джинсы, тянул на себя, и она приподнималась, помогая мне.
Я снимал с нее сразу все и чувствовал, что ее одежда, черный кружевной невесомый лоскут, и даже внутренность джинсиков чуть-чуть пропитались ею, ее готовностью.
Поднимал ее, просунув ей ладонь между ножек, поддерживал под животик, чувствуя мякотью ладони горячие завитки. Мне открывалась прекраснейшая из земных картин, упоительная география, разрезанный плод цвета мякоти киви…
Засыпая, я чувствовал, как во мне продолжает колыхаться и подрагивать все то, что произошло в течение дня.
Я помню, как она просыпалась, очень многими утрами, – и совсем не помню, как она засыпала. Наверное, я всегда засыпал первым.
Лишь однажды, уже заснув, я открыл глаза – и сразу встретился с ней глазами. Она смотрела на меня. В полной темноте ее глаза жили словно бы отдельно от тела. Что-то было в этом темное, тайное, удивительное, словно я на мгновение стал незваным соглядатаем, проник в нору, где встретился неведомо с кем. Впрочем, удивление быстро замешалось с сонной вялостью, и я заснул.
– Мне иногда кажется, что жизнь – это как качели, – сказала она на другой день.
– Потому что то взлет, то…
– Не знаю… – задумчиво сказала Даша и засмеялась. – Может, потому, что тошнит и захватывает дух одновременно?
Я внимательно смотрел на нее, вспоминая свое ночное пробуждение, почему-то не решаясь спросить, почему, зачем она смотрела в мое спящее лицо.
– Нет, правда, я, когда что-то вспоминаю, пытаюсь вспомнить, чувствую, будто я на качелях: все мелькает, такое разноцветное… и бестолковое. Счастье… – еще неопределенней добавила она.
Мы выходили на кухню – выпить горячего чая, Даша – с вареньем моего изготовления, она ела его из гордости за то, что варенье приготовил я, а я – с закупленными Дашей впрок лазурными печеньями, потому что варенье я уже ел, а такого печенья еще не пробовал. Я сметал крошки в ладонь и засыпал их в рот.
В «козелке» по городу ездить безопаснее, чем, скажем, в сопровождении двух бэтээров. На «козелок», в котором непонятно кто едет, чичи, возможно, и внимания не обратят. Обстрелять, конечно, могут, мы на себе эту вероятность опробовали, но все-таки бэтээры обстреливают чаще. Чины из главного штаба уже пересели на «козелки» и катаются по городу на больших скоростях в полном одиночестве, ну, с охраной, конечно, – из таких же белолобых молодцов, как мы, но безо всяких украшенных крупнокалиберными инструментами кортежей. Главный штаб – законодатель, так сказать, местных мод.
Наш капитан Кашкин, взяв водителем Васю Лебедева, добродушного бугая, часто катается по поручениям Семеныча – в основном в штаб округа. Поначалу с ним ездил Хасан – как знающий город, но потом Вася быстро сориентировался, что да как, кроме того, начштаба где-то карту города раздобыл, так что кататься стали все подряд – кого Семеныч пошлет, тот и едет. Посылал он обычно кого-то из командиров отделений плюс один боец.
В первую же поездку я с собой Саню позвал, Скворца. В отделении моем есть пацаны посильней и позлее Сани, тот же Кизяков с его неистребимой невозмутимостью или Андрюха Суханов, громила с пулеметом. Да все хороши, разве что Монах… хотя что Монах, тоже человек… но мне вот с Саней хочется ехать, и даже не хочу разбираться, почему.
Сажусь на переднее сиденье не без удовольствия – это из детства, наверное. Тогда впереди только взрослые садились. А теперь мы сами выросли настолько, что нам даже автомат железный дали. Вася Лебедев хлопает капотом, руки протирает ветошью, садится, ухмыляясь, за руль. Вот тоже чудо, а не парень, с хорошим настроением по жизни.
Из школы выходит маленький, сутулый начштаба с черной папкой. Усаживается на заднее сиденье рядом со Скворцом. Чувствуется, что весит капитан Кашкин не больше, чем обычный восьмиклассник.
«Зачем таких в спецназ берут?» – думаю, имея в виду не только физические данные начштаба, но и его слабохарактерность. Это Семеныч мутит: специально таких замов себе подбирает, чтоб не подсидели.
– Открывай калитку, служивый! – кричит, приоткрыв дверь и высунувшись, Вася пригорюнившемуся на воротах Монаху. – Фрукт какой… – без зла добавляет он, хлопнув дверью, и, выруливая за ворота, спрашивает у меня: – Ну, вы там выяснили, за кого Бог-то?
– Бог, – говорю, – за всех. Он всех любит.
– Ага. Учтем, – смеется Вася.
Солнце высвечивает размытые грязные потеки на лобовом стекле, в зеркальце заднего вида я вижу бесцветное лицо Монаха, захлопывающего ворота.
Прилаживаю на колени автомат, поглаживаю два рожка, перепоясанные синей изолентой, один вставленный в автомат, другой – запасной.
Вася аккуратно объезжает лужи у ворот, проезжая правыми колесами по тому месту, где был и местами сохранился тротуар.
Чеченки потихоньку собираются на рынок, расставляют свои лотки.
Семеныч разрешил пацанам выходить на рынок только по двое. «Внимание, внимание и еще раз внимание!» – предупредил Куцый. Водку, конечно, употреблять запрещено. А пиво можно.
Выяснилось, что уличная торговля – привычное тут дело. Стрельба стрельбой, а деньги нужны. Возле Главного окружного штаба уже неделю рынок работает. Никого пока не отравили.
Пацаны соскучились по сладкому да по мясистому – Плохиш всех достал макаронами с тушенкой: на рынке постоянно кто-то из наших крутится, иногда из соседних комендатур приезжают ребятки, «собры» порой бухают у нас – от большого начальства подальше.
…Выруливаем налево, поднимаемся на трассу, еще один поворот налево. Вася, притормозив, привычно накренясь корпусом к рулю, взглядывает направо – нет ли транспорта.