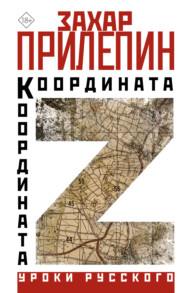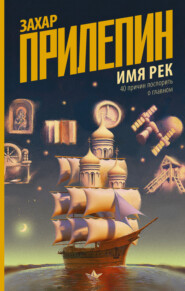По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дорога в декабре (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Поднимаю голову, вижу, что Амалиева уже нет на посту дневального. Слышу из коридора его голос, он рассказывает, как шел бой.
«Вот урод», – вяло и без злобы думаю я.
– Надо бы выпить… – говорит Костя Столяр.
Я вижу его красивые красные пухлые тапки на босых ногах. Поднимаю глаза. На мгновение удивляюсь, почему он не может решить этот вопрос с Шеей, при чем тут я. Но Шея лежит мертвый где-то. На сыром брезенте – почему-то мне так представляется. На черном и сыром брезенте.
Язва тоже где-то шляется…
«А Семеныч? Разрешил?» – хочу спросить я, но вспоминаю, что Семеныч с простреленным ухом уехал в ГУОШ. И Черная Метка убыл, и начштаба Кашкин тоже вслед за Куцым умчался.
– Надо, – говорю.
– Надо, Сань? – спрашивает Столяр у Скворца.
Скворец молчит и смотрит на свои пальцы.
– Плохиш! – зову я.
– Чего, мужики? – спрашивает Плохиш серьезно, без подначки. Кажется, я впервые слышу, чтоб он разговаривал таким тоном.
– Надо выпить, – говорю и смутно вспоминаю, что на днях я очень напился. Только надо вспомнить, когда это было. Это было меньше суток назад. Вчера ночью. Утром я проснулся со страшного похмелья. И даже хотел умереть. Теперь не хочу.
– Я хочу вернуться к моей девочке, – говорю я вслух, выйдя на улицу, негромко. Слышу чье-то движение, вздрагиваю. Повернув голову, вижу Монаха. Ссутулившись, он проходит мимо меня. Я даже не понимаю, чего я хочу больше – обнять или ударить его в бок, под ребра.
На улице только что закончил лить дождь, и в воздухе стоит тот знакомый последождевой глухой шелест и шум: такое ощущение, что это эхо дождя – мягкое, как желе, эхо.
В «почивальне» пацаны знатно уставили стол. Консервы вскрыты, у бутылок водки беззащитно обнажены горла, луковицы слабо лоснятся хрустким нутром, хлеб кто-то нарезал треугольниками – это как ржаные похоронки.
Никто не трогает пищи. Каждый из парней подтянут и строг.
Мы садимся за стол, переодетые в сухое белье, с отмытыми, пахнущими мылом руками, в черных свитерах с засученными рукавами. Мы молчим. Сухость наших одежд и строгость наших лиц каким-то образом рифмуются в моем сознании.
Мы разливаем водку и, замешкавшись на мгновение, чокаемся. За то, что нас не убили. Чокаемся второй раз за то, чтобы нас не убили завтра. Не чокаемся в третий раз и снова пьем.
Молчим. Дышим.
Я беру хлеб, цепляю кильку, хватаю лепестки лука, жую. Улыбаюсь кому-то из парней, мне в ответ подмигивают. Так, как умеют подмигивать только мужчины – обоими глазами, с кивком. Иногда мужчины так кивают своим детям, с нежностью. И очень редко – друзьям.
Кто-то у кого-то шепотом попросил передать хлеб. Кто-то, выпив и не рассчитав дыхания, пустил слезу, и кто-то по этому поводу тихо пошутил, а кто-то засмеялся.
И сразу стало легче. И все разом заговорили. Даже зашумели.
Я вижу Старичкова. Его левая рука прижата к боку. Заметно, что под свитером бок перевязан.
– Чего у тебя? – говорю я, улыбаясь.
Он машет рукой – ничего, мол, переживем.
– Тебе бы домой…
Старичков разливает, не отвечая, – и его молчание звучит еще приветливей и светлее, если б он ответил, что не хочет домой.
Быстро спьянились. Пошли курить. Я тоже пошел. С кем-то обнимались, даже не от пьяной дури, а от искреннего, почти мальчишеского дружелюбия.
Возвращаясь, слышим, что в «почивальне» уже кто-то разошелся, кричит, что «я их, бля… я им, бля!..»
Смотрим, а это Валя. Лицо его от удара прикладом вспухло необыкновенно, смотреть на него жутко.
– Валя, милый! – говорю я.
– Ну и рожа, – говорит Плохиш.
– Зато теперь их можно со Степой различить, – говорит Язва.
Не успев присесть, я жадно кинулся макать в банки из-под кильки хлеб. Пацаны, вернувшись из курилки, спутали места, на которых сидели. И все мы доедаем друг за другом, из разных тарелок, жуем надкушенный товарищем хлеб и недоеденный соседом лук. И все разом рассказывают, как оно было там. Кто что делал. И выходит, что все было очень смешно.
– Валя! – шумит Столяр, смеясь. – Ты проткнуть хотел чечена автоматом? Чего не стрелял?
– А ты?
– Боялся тебя прибить!
– Да у меня патроны кончились!
– Он мог бы всех положить – и меня, и Костю, и Валю, и Егора, – говорит Андрюха Конь о чеченце, убежавшем в сады, – но у него тоже, наверное, патронов не было…
– У них и стволов-то, слава Богу, было… сколько? Три? Или четыре?
Спорим недолго, незлобно и бестолково, сколько у чеченцев было автоматов, почему они сдались, кончились ли у них патроны и еще о чем-то.
Пьем еще и, спокойные, решаем идти на крышу. Не спать же ложиться.
На улице вновь полило. По крыше струятся ручьи.
Вылезаем под дождь, розовоголовые, теплые, дышащие луком и водкой. Андрюха Конь, разгорячившийся, снял тельник, открылось белое парное тело.
Андрюха прихватил с собой пулемет, держит его в тяжелых руках. Выплевывает сигарету, которую мгновенно забил дождь. Идет в развязанных берцах к краю крыши. За несколько шагов до края останавливается и дает длинную очередь по домам. Тело его светится в темноте, как кусок луны. Наверное, он хорошо виден с небес, голый по пояс, омываемый дождем.
Стреляя, Андрюха Конь медленно поводит пулеметом. Кто-то из парней идет к нему, на ходу снимая оружие с предохранителя и досылая патрон в патронник. Кто-то присаживается на одно колено у края крыши, кто-то встает рядом с Андрюхой.
Я смеюсь, мне смешно.
Вижу среди стреляющих Монаха. Он пьян. Стоит, широко расставив ноги.
– Мы куплены дорогою ценой! – кричит Монах и стреляет. – Мы куплены дорогою ценой!
По кругу идет бутылка водки. Мы пьем и раскрываем рты, и в паленые наши пасти каплет ржавый грозненский дождь. Кидаем непочатый пузырь стоящим у края крыши. Бутылку ловят. Андрюха пьет, прекратив ненадолго стрельбу, и отдает бутылку Монаху. Тот допивает и, закашлявшись, бросает пузырь с крыши и сам едва не падает – его ловит за шиворот Андрюха.