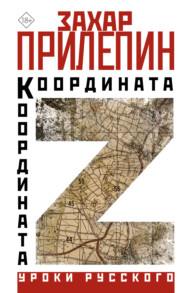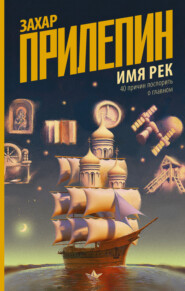По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Санькя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В соседней комнате умирал дедушка. Саша с аппетитом ел. Он проголодался. Каравайчики были всё так же, как в детстве, вкусны.
Бабушка рассказывала о том, что произошло в деревне.
В крайнем по улице доме жил мужик, по прозвищу Хомут. Саша хорошо знал его. Хомут однажды спас Сашку. И отец знал Хомута, они дружили – какой-то безмолвной, тихой дружбой.
Хомут был здоровый, ясноглазый, сильный, как конь. Прошлым летом он удавился. К нему приехали из города сыновья, помочь с огородом. Работая на огороде, Хомут с сыновьями разругался. Он давно с ними плохо ладил. Разругался и сказал: «Сейчас я вам покажу!» Ушел в дом. Сыновья махнули рукой и продолжили работу. Когда пришли, обнаружили отца в сарайке – повесился на перекладине, подогнув ноги.
Нет теперь Хомута.
Через двор от родного Сашиного дома вместе со своей матерью жил мужик, по прозвищу Комиссар. Комиссаром его прозвали за то, что он последние лет пять ни черта не делал, только наблюдал за селянами, с самого утра стоя у загородки, на нее оперевшись. Он развелся с женой, питался на пенсию своей матери. Саше всегда чудилось в нем что-то нездоровое. Без женщины, сорокалетний бугай, чем он занят целыми днями? Дочь одна растет в городе, совсем еще малыш… Удавиться же можно от такой жизни. Но он не удавился. Сначала померла его тихая матушка, а вскоре и сам он умер, что-то с сердцем.
Два сына ближней соседки погибли еще тогда, когда разбился младший Сашкин дядька, – и соседкины пацаны тоже разбились, и тоже на мотоциклах. Как было: к последним годам прежней власти крестьянство наростило, наконец, мясцо, подкопило деньжат. Первое, что делает деревенский житель, всю жизнь вкалывавший до бесчисленного пота, – дитя свое балует, какого бы возраста оно ни было. Именно в те годы вся деревенская пацанва возжелала пересесть с велосипедов на мотоциклы. В деревне не то что гаишников не было – там участкового-то никто не видел по полгода, так что ездили все пьяные. И сразу же начали биться. Разбивались жутко, вдрызг, летели перед смертью, выброшенные ударом из седла, по пятьдесят, а то и по семьдесят метров, сносили свои дурные головы о деревья и заборы, ломали все кости так, что тело превращалось в розовый мягкий творог, а порой еще и девчонки молодые бились, на втором сиденье располагавшиеся. И если не гибли девки, то ломали часто себе позвоночники и лежали потом, обезножев, перебирая тот несчастный вечер в уме, каждую минуту.
Саша, еще ребенком бегавший за хлебом в деревенский магазин, часто встречал у магазина когда три, когда пять, а когда и больше женщин в черных платках – у всех у них сыновья побились. Женщины стояли и тихо разговаривали о том, как жили и как погибли их детки. И несколько слов, мельком, мимоходом услышанных из черных уст женщин, потом долго возились в Сашиной голове, не находя себе места.
Кто-то уехал из деревни в последние годы, рассказывала бабушка, кто-то тихо умер от ранней немощи, и остался на всем порядке один мужик – никто уже не помнил, за что прозванный Соловьем. Он неведомо где ежевечерне напивался, приходил домой, глупо кричал на безмолвную, давно все проклявшую и замолчавшую в безысходе жену. Детей у них не было. Вечерами в почти пустой деревне раздавались вопли Соловья.
Пьяный он мало кого узнавал, шел по деревне, ничего не замечая, и лишь тоскливый вид жены возвращал его к мутной реальности из алкогольного далека, пробуждая уже физиологическое желание кричать и ругаться, ни в одном слове, впрочем, не отдавая себе отчет.
Это он, Соловей, прошел мимо дома, когда Саша курил у загородки.
Бабушка собрала со стола, пошла стелить Саше в комнате, отделенной перегородкой от лежанки деда.
Расстилая кровать, она вспоминала, как спал на этой кровати Вася, кровинка, малое дитя, выпестованное после войны, за крестьянским трудом неприметно выросшее в худого, высокого, рано облысевшего парня, ушедшего из родного дома и вернувшегося здоровым мужиком, в котором только она и могла без труда увидеть все то же дитя. Но вот у Васи остановилась кровь в теле, и он перестал быть.
Когда у Васи впервые стало плохо с сердцем, он приснился ей. Во сне Вася лежал на кровати и говорил: «Мама, вот тут у меня болит, дышать не могу», – и на сердце показывал.
Она сразу отправилась к Васе, приехала нежданно в город, где не была уже лет десять, и уже в городе узнала, что сон – вещий.
Саша тогда привел ее в больницу, куда спешно положили отца.
Отец лежал спокойный, потемневший лицом, прислушивался к себе. Внутри билось больное сердце. Бабушка сидела рядом и вглядывалась в лицо сына.
Отцу сделали операцию, разрезали грудь, полчаса, пока колдовали врачи, его сердце было вне тела. Он выжил. Пить ему было нельзя. Но вскоре погиб братик Коля, и Вася запил. Запил раз, потом еще раз, угодил в больницу и быстро умер, в два дня.
Саша знал, что бабушка расстилала кровать и в который раз думала, почему же, почему, когда Васе стало плохо во второй раз, он не приснился ей, не позвал ее, и никак не могла найти ответа.
Не приснился и не позвал. Позвонили зимой соседям – по единственному в деревне телефону, сказали, что Вася умер, передайте, везем хоронить. А через три недели после похорон пришло Сашино письмо, которое Саша написал за полторы недели до смерти отца. По причине плохой работы почтовой службы письмо пропустило все сроки и добрело едва ли не пешком. В письме Саша писал, что отец чувствует себя хорошо.
– Как же так в одночасье все случилось? – спросила бабушка у Саши, поднесшего себе еще раз, еще покурившего и пришедшего спать. – Ты в письме писал, что отцу хорошо. Я читаю, а он уж в могиле. Не то ему там хорошо стало. Мучился всю жизнь…
Бабушка смотрела на Сашу спокойно, не ожидая от него ответов.
«Иногда говорят, что внуков любят больше, чем детей. Неправда…» – подумал Саша.
Бабушка любила сыновей. Саша был для бабушки невнятным напоминанием о том времени, когда семья была полна и сыны жили. Но она не в силах была наделить Сашу чертами его отца, почувствовать в нем свою – отданную сыну и проросшую во внуке – кровь. Саша был отдельным человеком, почти уже отчужденным…
Очень редко бабушка взглядывала на Сашу с надеждой, что покойный сын проявится в облике внука, подаст знак, но тут же осекалась: «Не он, не он…»
Саша это понимал и принял тихую, почти не осязаемую, тоньше волоса, отчужденность бабушки спокойно. Не осознав это рассудком, втайне от самого себя он чувствовал, что так – в некоем отчуждении от бабушки – ему легче здесь находиться. Когда у каждого в сердце своя беда, касаться этим сердцам, может быть, и незачем. Разве надо идти за предел того, что и так едва выносимо.
Дедушка же и не собирался больше ничего терпеть, торопился к детям.
Он стоически перенес смерть двух сыновей и еще за год до смерти третьего был крепок. Крепче Саши – Саша помнил, как подивился здоровью деда, когда они однажды работали на дворе и дед орудовал здоровенным молотом, который Саша едва поднимал.
Но вот последний сын ушел, и дед раздумал жить.
В голове деда не возникали отсветы прошлого. Не было воспоминаний о том времени, когда он, молодой ударник, работал на комбайне, и о том, когда он, красивый офицер, командовал орудием. Ни почти трехлетний плен не вспоминался, ни послевоенное житье. Не было ясности, доброй памяти. Были отзвуки, недоговорки, обмылки воспоминаний, ни одна мысль не находила своего завершения, все покачивалось, будто в темном вагоне с мигающим, почти бессильным светом, и где-то голоса невидимых спутников, и позвякивает посуда, и проводника нет, и что-то невнятное мелькает за окном.
Дед прислушивался, но ничего не мог разобрать.
Прошла бабушка, заметил дед. И опять он ничего не смог подумать ни о ней, ни о себе, ни о ком. Нечего было решать, и ничего не разрешилось само. Все истекло и отмелькало. Накатывало бесцветное. Редко капало оставшееся на дне.
Дедушка всегда включал радио на полную громкость – в те времена, давно. В шесть утра в избе раздавался гимн. Бабушка к этому времени уже вставала. Саша потягивался тонкими ножками с немытыми пятками, злился на дедушку. Но сразу же засыпал – едва прекращалась мелодия. Вставал в добром расположении духа. Ел молочный суп. Иногда в супе попадалась муха, но Саша не брезговал – выловив и положив ее рядом с тарелкой, все доедал. Муха лежала со слипшимися крыльями в маленькой белой лужице. Суп был необыкновенно вкусный, сладкий, горячий. После супа – каравайчики, чай. Все было так нежно.
В шесть утра радио засипело, словно пластинка с гимном уже окончилась или никак не могла начаться, заедая. Радио тяжело дышало своим черным, пыльным легким, срываясь на хрип. Звук не прекращался.
Саша открыл глаза.
Над головой висели иконы.
Маленькое оконце слева от кровати цедило свет.
Бабушки в избе не было.
Саша прислушался, желая услышать дыхание деда, но не услышал. Вставать не хотелось. Но лежать – вдвоем с дедушкой за перегородкой – не хотелось еще больше.
Ноги брезгливо коснулись пола. Плечи передернуло. Скулы сжались, сдерживая зевок. Глаза суетливо метнулись по комнате, отыскивая, на чем бы задержаться, чтоб сердце успокоилось и утро началось в добре.
В противоположном углу комнаты висел «семейный иконостас» – с фотоснимками, тысячу раз виденный. Но Саша до сих пор любил разглядывать его.
Он оделся, сразу обрядившись и в брюки, и в майку, и в свитер, и, не подпуская близко мысли «…как там дед, взгляни…», прошел, потягиваясь и стараясь ступать тихо, в дальний угол, к белевшим смутно карточкам.
Вот это большое фото часто поражало Сашу: 1933 год, деревенские девушки сидят группой, их около двадцати. Девушки холеные, можно сказать – мордатые, одна другой слаще. Но ведь – коллективизация, работали за галочки. Саша всё забывал спросить у бабушки, как так. Бабушка-то вот она, около шестнадцати лет ей или меньше – она не знала своего дня рождения и никогда его не отмечала, – но хорошая уже девка, всё при ней. И 1933 год на дворе.
А вот и дедушка, с другом, 1938 год. Лица пресветлые, глаза широко раскрыты, честные мужские полуулыбки. Командирские часы на руке деда, огромные, выставлены напоказ. Товарищ полукавказской внешности, но достойный такой кавказец, яркий, весь – вспых, точно неведомым образом отразил фотовспышку.
Хорошо им. Довольны, что фотографируются, впереди – жизнь.
Товарищ деда, Саша забыл его фамилию, геройски погиб на Отечественной войне, летчик был. Его бюст стоит у магазина, с вечно повялыми цветами у подножия.
Дедушка имел бронь: до сорок второго года его на фронт не брали – он был лучший комбайнер в области. Дедушка тогда уже на бабушке был женат, хотя детей еще не было.
Но осенью 1942-го и дедушке пришлось отправиться на фронт. Вскоре он попал в плен. И в плену пробыл всю войну. Рассказывал об этом неохотно. Любил только вспоминать, как в плену погадал ему ведун и предсказал, что жить деду до восьмидесяти лет.
– Люди умирали беспрестанно, каждый день, по нескольку человек, – говорил дед. – Спали рядом, чтоб теплее, все в ряд. Все разом переворачивались с бока на бок, несколько раз за ночь. Иной раз поворачиваешься, а рядом сосед уже околел, холодный лежит… Мне нагадали, а я не поверил: никто не верил, что день еще прожить удастся, – а мне говорят: «восемьдесят лет». Но дожил. Лишка уже хватил.
Когда умер Сашин отец, деду было восемьдесят четыре.