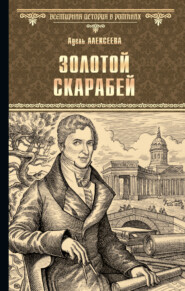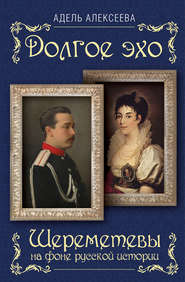По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Красно-белый роман. Лариса Рейснер в судьбе Николая Гумилева и Анны Ахматовой
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это Мандельштам. Осип Мандельштам, совсем молодой поэт.
– «Имею тело: что мне делать с ним, таким единым и таким моим…» Недурно… А ваш Бальмонт, – он кивнул молодому человеку с бантом, – писуч, певуч, но…
– Леонид Николаевич, что вы! Его весь мир признает. Он сейчас Париж покоряет. Говорят, ходит по городу – медный, рыжий, вольный!
– А-а… заграница… Россия не глупее заграницы. «Златовейный», «звонкоструйный» – это песенки для барышень.
Серьезная девушка с серыми глазами спросила, как относится писатель к русскому символизму и чем он отличается от европейского?
Андрееву не хотелось в этот летний благоухающий вечер, среди очаровательных девушек пускаться в теории, и он сдержанно ответил, что предпочитает наслаждаться искусством, а не теорией литературы.
– Но мы вас очень просим, – упрямо продолжала сероглазая. – Некоторые критики считают, что символизм уже умирает, на смену ему идет акмеизм. А вы как считаете?
– Леонид Николаевич, пожалуйста! – поддержала ее Лариса, умоляюще глядя на Андреева, похожего сейчас на какого-то знаменитого артиста.
Брови ее поднялись, губы приоткрылись, в наступающих сумерках блеснули белые зубы и загоревшиеся вызовом глаза.
Андреев полушутливо прикоснулся ладонями к ее косам-раковинам и заговорил охотнее.
– По-моему, у символистов слишком многое идет от разума, а Брюсов и Белый холодны, как покойники… Возможно, критики правы, предрекая смерть символизму, но… – он сделал упор на этом «но», – никогда не умрет такой поэт, как Блок. Потому что никакой настоящий писатель не вмещается в рамки одного придуманного течения. Как Афина Паллада рождается из пены морской, так поэт рождается из сердец человеческих. А это посложнее, чем просто литературное направление.
Андреев постучал трубкой по дереву, вытряхнул остатки табака, почему-то помрачнел и заговорил снова, теперь тяжело, раздельно, словно вынимая каждое слово из груди:
– Вот читали вы стихи… Хотя вообще-то я не знаток и не любитель стихов. Это были недурные стихи, но… – снова он споткнулся на своем «но», – есть еще то, что выше поэзии, что необъяснимо с обычной человеческой точки зрения… Не стихи, не музыка даже рождают самые яркие образы. Это – любовь! Кому удастся ее пережить и остаться… в живых – тому удача! Только любовь способна победить хаос.
Зажав в одной руке трубку, подняв другую, левую, простреленную когда-то в юности, глуховатым голосом он закончил:
Как тяжело ходить среди людей
И притворяться непогибшим,
И об игре трагической страстей
Повествовать еще не жившим.
И, вглядываясь в свой ночной кошмар,
Строй находить в нестройном вихре чувства,
Чтобы по бледным заревам искусства
Узнали жизни гибельный пожар!
Вдали, на темнеющей линии горизонта пролетели большие птицы, показалось, что это лебеди. Откуда-то послышался высокий женский голос, с чувством запел «Я встретил вас…», зазвучали переборы гитары.
Лариса улыбалась… Ей всего шестнадцать, она первая ученица в гимназии, она красива, все ее любят, чуть не целое лето на даче прожила рядом с таким человеком, как Андреев. Он завораживает ее, кажется, она влюблена. И показалось: ничего не было лучше и уже ничего не будет более важного, чем этот вечер…
И… кто-то из темноты шепнул ей: «Все, чего ты пожелаешь, свершится, жизнь тебе удастся, и кое-кто из отчаянных моих друзей тебе поможет, так что – вперед!»
* * *
Мысль, казалось бы, случайно возникшая в голове писателя, тем не менее в скором времени воплотилась: своего сына Вадима Андреев решил отдать на «перевоспитание» в семью Рейснеров. Пусть одаренный, но разбросанный мальчик поживет в строгой благовоспитанной семье.
Отец Ларисы, Михаил Андреевич Рейснер, происходил из старинного прибалтийского рода, восходившего чуть ли не к крестоносцам. Мать, Екатерина Александровна, – из русских дворян, в числе ее предков был Храповицкий, секретарь Екатерины II.
В семье царили порядок и непреклонность установленных правил. Избави бог перепутать приборы за ослепительно белой скатертью, положить локти на стол или есть с открытым ртом. Это почиталось чуть ли не смертельным грехом.
Отец, специалист по юридическому праву, работал в Томском университете, но в 1903 году из-за лояльного отношения к студенческим беспорядкам вынужден был уехать за границу. Там он сблизился с русской эмиграцией, в том числе с социал-демократами. После амнистии 1905 года Рейснеры вернулись в Петербург.
Вадим Андреев оставил замечательные воспоминания о своей жизни в семье Рейснеров. Михаил Андреевич, писал он, был большой грузный человек с неожиданно тонким голосом. Внешне он оставался главой дома, однако настоящей домоправительницей была Екатерина Александровна. Урожденная Хитрово, она находилась в родстве с военным министром, генералом Сухомлиным. Только ни с ним, ни с кем-либо из других именитых родственников отношений не поддерживала. Маленькая целеустремленная женщина, она обладала острым умом и решительным нравом. Екатерина Александровна не только управляла домом, но могла и на улице или в трамвае вмешаться в любой спор и остроумным замечанием, шуткой привлечь всех на свою сторону.
Спокойный отец и решительная мать сумели передать дочери лучшие свои качества. Лера, Лерхен, Ларочка! Ее обожали в семье и баловали как могли. Еще бы! Красота ее сражала чуть не всякого, кто появлялся в доме. Вадим Андреев писал:
«Лариса была молоденькой девушкой, писавшей декадентские стихи, думавшей о революции, потому что в семействе Рейснеров не мечтать о ней было невозможно, но все же больше всего наслаждавшейся необычайной своей красотою. Ее темные волосы, закрученные раковинами на ушах… серо-зеленые огромные глаза, белые, прозрачные руки, особенно руки, легкие, белыми бабочками взлетавшие к волосам, когда она поправляла свою тугую прическу, сияние молодости, окружавшее ее, – все это было действительно необычайным. Когда она проходила по улицам, казалось, что она несет свою красоту как факел и даже самые грубые предметы при ее приближении приобретают неожиданную нежность и мягкость. Я помню то ощущение гордости, которое охватывало меня, когда мы проходили с нею узкими переулками Петербургской стороны, – не было ни одного мужчины, который прошел бы мимо, не заметив ее, и каждый третий – статистика, точно мною установленная, – врывался в землю столбом и смотрел вслед, пока мы не исчезали в толпе. Однако на улице никто не осмеливался подойти к ней: гордость, сквозившая в каждом ее движении, в каждом повороте головы, защищала ее каменной, нерушимой стеной.
Вообще гордость была одной из основных рейснеровских черт. Даже мой товарищ, брат Ларисы, Игорь, веснушчатый, острый, в мать, четырнадцатилетний мальчишка, был преисполнен гордостью: так, как он, никто не умел закинуть голову, одним взглядом уничтожить зарвавшегося одноклассника и выйти с достоинством из трудного положения. Эта гордость шла Рейснерам, как мушкетерам Александра Дюма плащ и шпага.
…У Рейснеров, несмотря на всю их гордость, была доброта, но скрытая, вернее, отвлеченная: не к людям, а к человечеству; было глубокое чувство товарищества и верность тем убеждениям, которые они исповедовали, как религию; большая душевная честность – для личного удобства из них никто не пошел бы на компромисс. Я не думаю, что они смогли забыть о своем многосотлетнем дворянстве, даже если бы и хотели забыть.
…Все те, кто отчаянно влюблялись в Ларису – только немногие избегали общей участи, – в день первой же попытки заговорить об охватившем их чувстве отлучались от дома, как еретики от церкви. Но внутри, в самой семье, было много мягкости и ласки: радостно они следили за успехами друг друга…»
* * *
…К той зиме Андреев наконец закончил отделку своего дома. И на рождественские каникулы пригласил к себе Вадима, Игоря и Ларису покататься на лыжах. Лариса мечтала показать писателю свой первый литературный опыт – пьесу «Атлантида», но отчего-то не захватила ее с собой. На станции их встретил кучер Андреева и повез к деревушке Ваммельсуу.
Дом стоял высоко, на косогоре и сразу открылся в застывшем закатном воздухе, напомнив феодальный замок, а может быть, корабль. Подъехали ближе – и стала видна стена с двумя освещенными окнами наверху и одним широким внизу. Это походило на древнюю маску – два глаза и рот. Высоченная башня, расположенная в угловой части дома, смотрела асимметрично пробитыми окнами разной величины. На многоуровневых черепичных крышах – пологих и крутых, высоких и низких – белели трубы, каждая с маленький домик.
Хозяин почему-то не вышел их встречать. «Болен», – вздохнув, сказала его мать и проводила их в комнаты для гостей. «Болен» – значит пьет, «болен» – значит, его нет, «болен» – значит, не будет ни радости, ни веселья.
На другое утро Вадим предложил Игорю и Ларе обойти весь этот необычный дом. С трудом открыв высокую дубовую дверь, сказал:
– Здесь находится гимнастический зал.
Вверху терялись приделанные к потолку кольца, трапеции, веревочная лестница. Словно водопад, от пола до потолка простиралась голубая матовая печь.
В столовой разглядеть потолок было просто невозможно – так был он высок. К тому же его загораживали деревянные стропила. Столовая от прихожей отделялась не стеной, а широкими дубовыми колоннами и висящими между ними коричневыми шерстяными занавесями.
Если бы не Вадим, можно было легко заблудиться в этом доме. Игорь насчитал больше десяти комнат. Ларису изумили лестничные клетки с шахматными окнами и неожиданными поворотами. Занавеси метров пяти высотой – розово-коричневые, зеленые, серые – покрывали целиком некоторые стены. На диваны могли лечь несколько человек; лавки длинные, деревянные, печки в несколько квадратных метров – все это подавляло, поражало, озадачивало, а в высоких темнинах мерещились привидения.
Похоже, здесь обитали не просто бесенята, но существа покруче и пострашнее… Кто они? Демоны? Лешие?… «Какие неведомые силы властвуют здесь?» – спрашивала себя Лариса, преодолевая страх. Из темных углов выглядывали черные сущности… Здесь, как в храме, нельзя было бегать, кричать, веселиться. Здесь надо было ставить представления, пьесы, декламировать. Во всем этом было некое символическое сходство с пьесами Леонида Андреева. Здесь было все грандиозно и страшно.
Шел третий день, а Леонида Николаевича никто не видел, кроме его матушки. Она бесшумно относила ему еду, питье и тихо выходила, шепча молитву. Когда ее спрашивали: «Ну, как?», она отвечала: «Еще не в себе». Лариса никогда не сталкивалась с этим «не в себе». Неужели этот великий человек пьет?
На четвертый день он вышел к обеду – мрачный, заспанный, бледный, с печальными глазами побитой собаки. Потом, не сказав ни слова, ушел гулять в лес.
А на пятый спустился вниз, как ни в чем не бывало. Обнял матушку и спросил: «Что, Рыжик, а не сыграть ли нам в лото? И не пора ли занять гостей?» Вадим робко подошел к отцу, тот потрепал его по волосам.
В доме сразу все ожило, можно было дышать, шуметь, петь. Леонид Николаевич разрешил войти в свой кабинет. Все здесь было как в музее: на полу медвежья шкура, голубой ковер, между двумя стульями – большой круглый стол, над ним – картина Гойи: три фантастические чудища с крыльями, одно у другого обрезает длинными ножницами когти. Писатель приобнял Ларису за плечи и повел вдоль стен.
– Посмотрим картины?
На одной были изображены белые фигуры, исчезающие в синем пролете улицы. На другой – Иуда Искариот и Христос, распятые на одном кресте. Несколько фотографий – сцены из спектакля «Анатэма» в постановке Мейерхольда. На столе открытая толстая книга с перечеркнутой страницей, газеты, вырезки, карандаши, этюдник с пастелью – все в полном беспорядке.
– Смотрите! – Андреев отбросил шторку, закрывавшую незаконченную картину на мольберте.
– «Имею тело: что мне делать с ним, таким единым и таким моим…» Недурно… А ваш Бальмонт, – он кивнул молодому человеку с бантом, – писуч, певуч, но…
– Леонид Николаевич, что вы! Его весь мир признает. Он сейчас Париж покоряет. Говорят, ходит по городу – медный, рыжий, вольный!
– А-а… заграница… Россия не глупее заграницы. «Златовейный», «звонкоструйный» – это песенки для барышень.
Серьезная девушка с серыми глазами спросила, как относится писатель к русскому символизму и чем он отличается от европейского?
Андрееву не хотелось в этот летний благоухающий вечер, среди очаровательных девушек пускаться в теории, и он сдержанно ответил, что предпочитает наслаждаться искусством, а не теорией литературы.
– Но мы вас очень просим, – упрямо продолжала сероглазая. – Некоторые критики считают, что символизм уже умирает, на смену ему идет акмеизм. А вы как считаете?
– Леонид Николаевич, пожалуйста! – поддержала ее Лариса, умоляюще глядя на Андреева, похожего сейчас на какого-то знаменитого артиста.
Брови ее поднялись, губы приоткрылись, в наступающих сумерках блеснули белые зубы и загоревшиеся вызовом глаза.
Андреев полушутливо прикоснулся ладонями к ее косам-раковинам и заговорил охотнее.
– По-моему, у символистов слишком многое идет от разума, а Брюсов и Белый холодны, как покойники… Возможно, критики правы, предрекая смерть символизму, но… – он сделал упор на этом «но», – никогда не умрет такой поэт, как Блок. Потому что никакой настоящий писатель не вмещается в рамки одного придуманного течения. Как Афина Паллада рождается из пены морской, так поэт рождается из сердец человеческих. А это посложнее, чем просто литературное направление.
Андреев постучал трубкой по дереву, вытряхнул остатки табака, почему-то помрачнел и заговорил снова, теперь тяжело, раздельно, словно вынимая каждое слово из груди:
– Вот читали вы стихи… Хотя вообще-то я не знаток и не любитель стихов. Это были недурные стихи, но… – снова он споткнулся на своем «но», – есть еще то, что выше поэзии, что необъяснимо с обычной человеческой точки зрения… Не стихи, не музыка даже рождают самые яркие образы. Это – любовь! Кому удастся ее пережить и остаться… в живых – тому удача! Только любовь способна победить хаос.
Зажав в одной руке трубку, подняв другую, левую, простреленную когда-то в юности, глуховатым голосом он закончил:
Как тяжело ходить среди людей
И притворяться непогибшим,
И об игре трагической страстей
Повествовать еще не жившим.
И, вглядываясь в свой ночной кошмар,
Строй находить в нестройном вихре чувства,
Чтобы по бледным заревам искусства
Узнали жизни гибельный пожар!
Вдали, на темнеющей линии горизонта пролетели большие птицы, показалось, что это лебеди. Откуда-то послышался высокий женский голос, с чувством запел «Я встретил вас…», зазвучали переборы гитары.
Лариса улыбалась… Ей всего шестнадцать, она первая ученица в гимназии, она красива, все ее любят, чуть не целое лето на даче прожила рядом с таким человеком, как Андреев. Он завораживает ее, кажется, она влюблена. И показалось: ничего не было лучше и уже ничего не будет более важного, чем этот вечер…
И… кто-то из темноты шепнул ей: «Все, чего ты пожелаешь, свершится, жизнь тебе удастся, и кое-кто из отчаянных моих друзей тебе поможет, так что – вперед!»
* * *
Мысль, казалось бы, случайно возникшая в голове писателя, тем не менее в скором времени воплотилась: своего сына Вадима Андреев решил отдать на «перевоспитание» в семью Рейснеров. Пусть одаренный, но разбросанный мальчик поживет в строгой благовоспитанной семье.
Отец Ларисы, Михаил Андреевич Рейснер, происходил из старинного прибалтийского рода, восходившего чуть ли не к крестоносцам. Мать, Екатерина Александровна, – из русских дворян, в числе ее предков был Храповицкий, секретарь Екатерины II.
В семье царили порядок и непреклонность установленных правил. Избави бог перепутать приборы за ослепительно белой скатертью, положить локти на стол или есть с открытым ртом. Это почиталось чуть ли не смертельным грехом.
Отец, специалист по юридическому праву, работал в Томском университете, но в 1903 году из-за лояльного отношения к студенческим беспорядкам вынужден был уехать за границу. Там он сблизился с русской эмиграцией, в том числе с социал-демократами. После амнистии 1905 года Рейснеры вернулись в Петербург.
Вадим Андреев оставил замечательные воспоминания о своей жизни в семье Рейснеров. Михаил Андреевич, писал он, был большой грузный человек с неожиданно тонким голосом. Внешне он оставался главой дома, однако настоящей домоправительницей была Екатерина Александровна. Урожденная Хитрово, она находилась в родстве с военным министром, генералом Сухомлиным. Только ни с ним, ни с кем-либо из других именитых родственников отношений не поддерживала. Маленькая целеустремленная женщина, она обладала острым умом и решительным нравом. Екатерина Александровна не только управляла домом, но могла и на улице или в трамвае вмешаться в любой спор и остроумным замечанием, шуткой привлечь всех на свою сторону.
Спокойный отец и решительная мать сумели передать дочери лучшие свои качества. Лера, Лерхен, Ларочка! Ее обожали в семье и баловали как могли. Еще бы! Красота ее сражала чуть не всякого, кто появлялся в доме. Вадим Андреев писал:
«Лариса была молоденькой девушкой, писавшей декадентские стихи, думавшей о революции, потому что в семействе Рейснеров не мечтать о ней было невозможно, но все же больше всего наслаждавшейся необычайной своей красотою. Ее темные волосы, закрученные раковинами на ушах… серо-зеленые огромные глаза, белые, прозрачные руки, особенно руки, легкие, белыми бабочками взлетавшие к волосам, когда она поправляла свою тугую прическу, сияние молодости, окружавшее ее, – все это было действительно необычайным. Когда она проходила по улицам, казалось, что она несет свою красоту как факел и даже самые грубые предметы при ее приближении приобретают неожиданную нежность и мягкость. Я помню то ощущение гордости, которое охватывало меня, когда мы проходили с нею узкими переулками Петербургской стороны, – не было ни одного мужчины, который прошел бы мимо, не заметив ее, и каждый третий – статистика, точно мною установленная, – врывался в землю столбом и смотрел вслед, пока мы не исчезали в толпе. Однако на улице никто не осмеливался подойти к ней: гордость, сквозившая в каждом ее движении, в каждом повороте головы, защищала ее каменной, нерушимой стеной.
Вообще гордость была одной из основных рейснеровских черт. Даже мой товарищ, брат Ларисы, Игорь, веснушчатый, острый, в мать, четырнадцатилетний мальчишка, был преисполнен гордостью: так, как он, никто не умел закинуть голову, одним взглядом уничтожить зарвавшегося одноклассника и выйти с достоинством из трудного положения. Эта гордость шла Рейснерам, как мушкетерам Александра Дюма плащ и шпага.
…У Рейснеров, несмотря на всю их гордость, была доброта, но скрытая, вернее, отвлеченная: не к людям, а к человечеству; было глубокое чувство товарищества и верность тем убеждениям, которые они исповедовали, как религию; большая душевная честность – для личного удобства из них никто не пошел бы на компромисс. Я не думаю, что они смогли забыть о своем многосотлетнем дворянстве, даже если бы и хотели забыть.
…Все те, кто отчаянно влюблялись в Ларису – только немногие избегали общей участи, – в день первой же попытки заговорить об охватившем их чувстве отлучались от дома, как еретики от церкви. Но внутри, в самой семье, было много мягкости и ласки: радостно они следили за успехами друг друга…»
* * *
…К той зиме Андреев наконец закончил отделку своего дома. И на рождественские каникулы пригласил к себе Вадима, Игоря и Ларису покататься на лыжах. Лариса мечтала показать писателю свой первый литературный опыт – пьесу «Атлантида», но отчего-то не захватила ее с собой. На станции их встретил кучер Андреева и повез к деревушке Ваммельсуу.
Дом стоял высоко, на косогоре и сразу открылся в застывшем закатном воздухе, напомнив феодальный замок, а может быть, корабль. Подъехали ближе – и стала видна стена с двумя освещенными окнами наверху и одним широким внизу. Это походило на древнюю маску – два глаза и рот. Высоченная башня, расположенная в угловой части дома, смотрела асимметрично пробитыми окнами разной величины. На многоуровневых черепичных крышах – пологих и крутых, высоких и низких – белели трубы, каждая с маленький домик.
Хозяин почему-то не вышел их встречать. «Болен», – вздохнув, сказала его мать и проводила их в комнаты для гостей. «Болен» – значит пьет, «болен» – значит, его нет, «болен» – значит, не будет ни радости, ни веселья.
На другое утро Вадим предложил Игорю и Ларе обойти весь этот необычный дом. С трудом открыв высокую дубовую дверь, сказал:
– Здесь находится гимнастический зал.
Вверху терялись приделанные к потолку кольца, трапеции, веревочная лестница. Словно водопад, от пола до потолка простиралась голубая матовая печь.
В столовой разглядеть потолок было просто невозможно – так был он высок. К тому же его загораживали деревянные стропила. Столовая от прихожей отделялась не стеной, а широкими дубовыми колоннами и висящими между ними коричневыми шерстяными занавесями.
Если бы не Вадим, можно было легко заблудиться в этом доме. Игорь насчитал больше десяти комнат. Ларису изумили лестничные клетки с шахматными окнами и неожиданными поворотами. Занавеси метров пяти высотой – розово-коричневые, зеленые, серые – покрывали целиком некоторые стены. На диваны могли лечь несколько человек; лавки длинные, деревянные, печки в несколько квадратных метров – все это подавляло, поражало, озадачивало, а в высоких темнинах мерещились привидения.
Похоже, здесь обитали не просто бесенята, но существа покруче и пострашнее… Кто они? Демоны? Лешие?… «Какие неведомые силы властвуют здесь?» – спрашивала себя Лариса, преодолевая страх. Из темных углов выглядывали черные сущности… Здесь, как в храме, нельзя было бегать, кричать, веселиться. Здесь надо было ставить представления, пьесы, декламировать. Во всем этом было некое символическое сходство с пьесами Леонида Андреева. Здесь было все грандиозно и страшно.
Шел третий день, а Леонида Николаевича никто не видел, кроме его матушки. Она бесшумно относила ему еду, питье и тихо выходила, шепча молитву. Когда ее спрашивали: «Ну, как?», она отвечала: «Еще не в себе». Лариса никогда не сталкивалась с этим «не в себе». Неужели этот великий человек пьет?
На четвертый день он вышел к обеду – мрачный, заспанный, бледный, с печальными глазами побитой собаки. Потом, не сказав ни слова, ушел гулять в лес.
А на пятый спустился вниз, как ни в чем не бывало. Обнял матушку и спросил: «Что, Рыжик, а не сыграть ли нам в лото? И не пора ли занять гостей?» Вадим робко подошел к отцу, тот потрепал его по волосам.
В доме сразу все ожило, можно было дышать, шуметь, петь. Леонид Николаевич разрешил войти в свой кабинет. Все здесь было как в музее: на полу медвежья шкура, голубой ковер, между двумя стульями – большой круглый стол, над ним – картина Гойи: три фантастические чудища с крыльями, одно у другого обрезает длинными ножницами когти. Писатель приобнял Ларису за плечи и повел вдоль стен.
– Посмотрим картины?
На одной были изображены белые фигуры, исчезающие в синем пролете улицы. На другой – Иуда Искариот и Христос, распятые на одном кресте. Несколько фотографий – сцены из спектакля «Анатэма» в постановке Мейерхольда. На столе открытая толстая книга с перечеркнутой страницей, газеты, вырезки, карандаши, этюдник с пастелью – все в полном беспорядке.
– Смотрите! – Андреев отбросил шторку, закрывавшую незаконченную картину на мольберте.