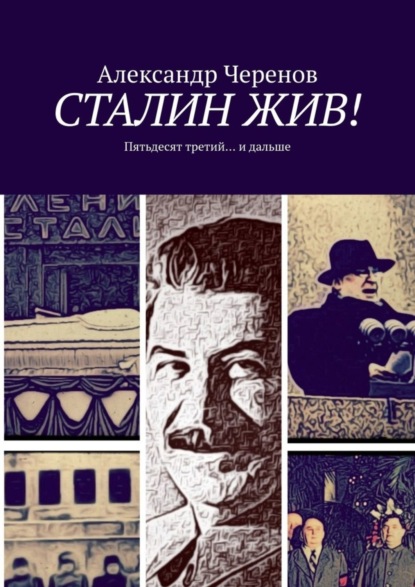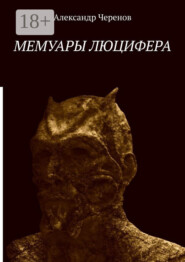По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
СТАЛИН ЖИВ! Пятьдесят третий… и дальше
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Молотов и Каганович прибыли одновременно, но не вместе. Даже из разных мест: для того, чтобы прибыть «рука об руку», они «слишком сильно любили» друг друга. Но сейчас оба были едины в удручённости и даже горе. Оба не таили содержимого душ – по линии чувств, разумеется: дураков «заголяться по полной» в Кремле не держали. У Молотова даже кончики поседевших усов опустились книзу, а Каганович и вовсе не скрывал слёз. И слезы эти были проявлением искренних чувств, а не водой, текущей из глаз Булганина, потому, что «так положено».
Плакал и Ворошилов, которого известили в последнюю очередь. Может, плакал он, в том числе, и по этой причине тоже. После войны Климент Ефремович неуклонно выбывал, пока, наконец, не выбыл – и «ближний круг» стал для него дальним. Несбыточной мечтой, то есть. Сталин уже не считал нужным скрывать иронии в отношении «первого маршала». Да и тот немало постарался для этой трансформации взглядов, особенно, в начальный период войны. А ведь до войны они с Хозяином часто пели дуэтом. И в прямом, и в переносном смысле. У Климента Ефремовича был не только выдающийся политический нюх, но и, пусть небольшой, но приятный голос и неплохой слух. Да и мужик он был компанейский: мог, как говорится, и попеть, и «попить».
Если бы не война: как она подкосила доверие Хозяина к Клименту Ефремовичу! Одно дело – махать шашкой с трибуны, да ещё в мирное время. И совсем другое – руководить военным хозяйством в условиях систематического дискомфорта, создаваемого до неприличия умелым противником! Тут уже и «души прекрасные порывы» – первым в атаку – не помогали. Потому, что «где должен быть командир?» Вот, тот-то и оно…
А Климент Ефремович оказался не на месте. Или место оказалось не для Климента Ефремовича. А такие «несоответствия» производят нехорошее впечатление даже на собутыльника. И, ладно, если бы это был «несчастный случай», а то ведь практика бытия.
В конце концов, врага одолели и без руководящего начала Климента Ефремовича. Но «авторитет» – «в формате мнения» – был уже создан. Как результат, в последние годы его «мастерство» и услуги по части «организации досуга» Хозяину уже не требовались. А работать, как до войны, хотя бы в плане одного лишь энтузиазма, Ворошилов, которому уже пошёл восьмой десяток, больше не мог. Сталин же теперь нуждался не в собутыльниках, и даже не в соратниках, а в сотрудниках. То есть, в людях дела. Таких, например, как Сабуров и Первухин, которые хорошо проявили себя в войну, и теперь стремительно приближались к заветному «кругу».
И плакал-то Ворошилов, больше глядя не на лежащего с синюшным лицом Хозяина, а на Берию, стоящего в позе монумента и демонстрирующего величественность напополам с торжеством. И смотрел на него «первый маршал» откровенно заискивающим взглядом. «Зарабатывал на дожитие», что ли?
Вскоре – по распоряжению Берии – привезли Светлану, дочь Сталина. Она была настолько подавлена как зрелищем, так и действом, что оказалась неспособна ни на текст, ни на эмоции. Она лишь неподвижно сидела с окаменевшим лицом, и невидящими глазами смотрела на тело отца. Лишь изредка, словно очнувшись от забытья, она начинала гладить его по сухой горячей руке, хотя бы «на дорожку» вспомнив о статусе дочери.
Булганин – добряга «по жизни» – не выдержал испытания чувством. Обняв Светлану за плечи, он начал гладить её по голове, говорить какие-то слова, и, в конце концов, под впечатлением собственных речей, неожиданно расплакался сам, так и не выжав ни единой слезинки из глаз Светланы. При взгляде на этот «обратный результат» Берия имел законное право матернуться хотя бы про себя: вот и поручай таким «профилактическую работу с объектом»!
Появилась новая бригада врачей. Они привезли какой-то громоздкий аппарат, долго пытались его хотя бы включить, долго шёпотом матерились, но всё вхолостую: и пытались, и матерились. Ничего не получалось: аппарат был новый, импортный, ни разу ещё не побывавший в деле. Словом, как сказал бы один товарищ, «дело это для нас – новое, неосвоенное». В итоге никто так и не понял, какое именно чудо они хотели сотворить с помощью этого «чуда техники». Если отработать за Иисуса Христа – по линии оживления – то это вряд ли. Пределом их мечтаний могло быть только одно: произвести впечатление на Берию. И они его произвели, и, как раз, приятное: аппарат не включился.
В конце концов, медики утомились, и с одного бесполезного занятия переключились на другое: начали «лепить»… нет, «не «горбатого»: пиявки на затылок Хозяину. Предварительно они заручились согласием трио Мясников-Лукомский-Тареев, а те, в свою очередь – согласием майора Браилова. Для этого потребовался лишь обмен взглядами: со стороны профессоров – вопросительными, со стороны Браилова – утвердительным.
Берия был настолько увлечён демонстрацией величия, что, по счастью, не обратил внимания на эти переглядывания. Хотя, даже в случае «обнаружения», ничего «предъявить по линии заговора» он не мог: не имел оснований. Для него не было секретом то, что профессора несколько лет работали вместе с Браиловым. И, тем не менее, давать Лаврентию Палычу лишний повод для подозрений было ни к чему. Особенно сейчас. А то ведь возьмёт и пустит в работу. Вместе с источником. За Берией «не заржавеет».
Получив «запрос» от коллег, Семён Ильич согласился, не раздумывая: в подобных случаях пиявки, хоть и бесполезны, но совершенно безвредны. А имитировать кипучую деятельность было важно и нужно: Берия должен был видеть, что события развиваются в точном соответствии с его планами, и ни на минуту не усомниться в подлинности усилий врачей.
– Сколько ему осталось?
Участники «монтажа» пиявок на мгновение оторвались от работы. На лицах медиков дружно, как по команде, отобразилось недоумение и даже страх. «Ему»? Разве так можно говорить о Хозяине? И действительно, голос, которым Берия озвучил вопрос, был не только далёк от сострадания: Это был голос «заведующего дыбой», интересующегося лишь в силу производственной необходимости. Не заметить это не могли даже рядовые «лекари от пиявок».
– Сколько ему осталось? – раздражённо повысил голос Берия, уставившись теперь на одного Мясникова. Лаврентий Палыч настолько вошёл в образ преемника, что ему уже было не до выбора слов, тем более, на конкурсной основе. Он рвался на трон, и лишние куртуазности были бы… только лишними куртуазностями.
Мясников пожал плечами.
– Трудно сказать… Кровоизлияние, судя по видимым последствиям – обширное… Организм сильно изношен… К тому же, возраст…
– Сколько?! – не снёс «высоконаучных надругательств» Берия. Мясников «профессионально» задумался.
– …Думаю, что сутки… Максимум, двое…
Берия посмотрел на часы. В этот момент неожиданно затрещал телефонный звонок. Трубку поднял Хрусталёв. О чём он говорил, не было слышно, но вскоре он подошёл к Берии, и зашептал тому на ухо, оглядываясь зачем-то на телефонный аппарат.
– Посылай всех к чёртовой матери! – хорошим, таким, рёвом, порекомендовал Лаврентий Палыч. Он уже не обращал внимания ни на момент, ни на уместность либо неуместность подобного тона.
Грохоча от усердия сапогами, Хрусталёв ринулся к телефону, но тут ему в спину донеслось:
– Постой: я сам их «пошлю»!
В отличие от Хрусталёва, Лаврентий Палыч был очень даже слышен.
– Ты, лекарь хренов! – загремел в коридоре его резкий голос. – Если ты ещё раз сунешься со своими рецептами, я прикажу стереть тебя в лагерную пыль! Самого мелкого помола! Ты понял меня, эскулап собачий! Пилюлькин, мать твою!
Вскоре он вернулся, и, обращаясь к одному Маленкову, но так, чтобы слышали все остальные, громко сказал:
– Звонят всякие шарлатаны! Лезут со своими знахарскими снадобьями! Все рвутся спасти этого «дорогого вождя»!
Столько яда и презрения было в голосе Берии, что Браилов испугался, как бы Хозяин не выдал себя прежде времени. Но Иосиф Виссарионович оказался дисциплинированным соучастником «контрреволюции». Он, если и покривил лицом, то в общем «контексте» страдальческой мимики это было большей частью незаметно, а меньшей – естественно.
Из района входных дверей донёсся какой-то неясный шум. Спустя мгновение он «прояснился». В зал вломился в генеральской шинели нараспашку Василий Иосифович – сын Иосифа Виссарионовича. Был он, как всегда пьян, а дополнительно к этому ещё и практически невменяем.
Во всяком случае, полубезумный взгляд его бешено вращающихся глаз не давал ни малейших оснований усомниться в верности такого предположения. Применительно к Василию Иосифовичу другого и быть не могло.
– Не уберегли, сволочи! – не успев ещё толком ввалиться в дверной проём, аттестовал он соратников, а заодно и «поздоровался». – Сгубили отца, гады!
Булганин, потерпевший фиаско в деле утешения Светланы, решил «попытать счастья» ещё раз.
– Что ты, Васенька? – испуганно запричитал он, хватая генерала ВВС за рукав шинели. – Что ты, родной?
Испуг его имел под собой основания: так отозваться о «самих» Лаврентий Палыче?! Ну, ладно, о нём, или, там, о Хрущёве: и не такое сносили, но о Берии?!
Василий Иосифович внезапно оборвал крик, на мгновение остолбенел, словно определяя принадлежность руки, а затем – видимо, определил – резко стряхнул руку Булганина с плеча и добавил вращения глазам:
– Я тебе не Васенька-Петенька! Я – Василий Иосифович, сын Иосифа Виссарионовича! Слышишь, ты, маршал хренов?
В этот момент он вдруг увидел отрабатывающую маятником Светлану, и кинулся ей на грудь.
– Света! Родная! Отца погубили! Сгубили, сволочи, отца!
Совершенно безумными глазами он обвёл находившихся в комнате, словно выбирая жертву своего внимания – и остановился взглядом на Берии.
– Это – заговор… Заговор… Отца убили… Я докажу… Я всех выведу на чистую воду… Всех выведу… Всех…
Берия спокойно поковырялся спичкой в зубах, и, не оборачиваясь, бросил через плечо:
– Хрусталёв, выведи его пока одного… хотя бы на кухню. А то он не даст больному и умереть спокойно!
Это настолько отрезвляюще подействовало на Василия, что он пришёл в себя, всхлипнул и даже не оказал сопротивления Хрусталёву, когда тот бережно взял его под руку, и повёл к выходу, по пути обдавая лаской и уважением:
– Василий Иосифович, пойдём ко мне в апартаменты: я дам Вам лекарство…
Уважение в такой форме Василий принимал всегда, даже от нижестоящих холуёв. Когда они с Хрусталёвым растворились в просторах коридора, Берия опять взглянул на часы.
– Значит, говорите: сутки, максимум, двое?..
Он на мгновение задумался.
– Тогда нам нужно установить посменное дежурство у ложа больного.
Он покосился на Сталина – и в очередной раз «лягнул» его:
– Лежит тут, сволочь, а мы должны вокруг на цырлах ходить!
Плакал и Ворошилов, которого известили в последнюю очередь. Может, плакал он, в том числе, и по этой причине тоже. После войны Климент Ефремович неуклонно выбывал, пока, наконец, не выбыл – и «ближний круг» стал для него дальним. Несбыточной мечтой, то есть. Сталин уже не считал нужным скрывать иронии в отношении «первого маршала». Да и тот немало постарался для этой трансформации взглядов, особенно, в начальный период войны. А ведь до войны они с Хозяином часто пели дуэтом. И в прямом, и в переносном смысле. У Климента Ефремовича был не только выдающийся политический нюх, но и, пусть небольшой, но приятный голос и неплохой слух. Да и мужик он был компанейский: мог, как говорится, и попеть, и «попить».
Если бы не война: как она подкосила доверие Хозяина к Клименту Ефремовичу! Одно дело – махать шашкой с трибуны, да ещё в мирное время. И совсем другое – руководить военным хозяйством в условиях систематического дискомфорта, создаваемого до неприличия умелым противником! Тут уже и «души прекрасные порывы» – первым в атаку – не помогали. Потому, что «где должен быть командир?» Вот, тот-то и оно…
А Климент Ефремович оказался не на месте. Или место оказалось не для Климента Ефремовича. А такие «несоответствия» производят нехорошее впечатление даже на собутыльника. И, ладно, если бы это был «несчастный случай», а то ведь практика бытия.
В конце концов, врага одолели и без руководящего начала Климента Ефремовича. Но «авторитет» – «в формате мнения» – был уже создан. Как результат, в последние годы его «мастерство» и услуги по части «организации досуга» Хозяину уже не требовались. А работать, как до войны, хотя бы в плане одного лишь энтузиазма, Ворошилов, которому уже пошёл восьмой десяток, больше не мог. Сталин же теперь нуждался не в собутыльниках, и даже не в соратниках, а в сотрудниках. То есть, в людях дела. Таких, например, как Сабуров и Первухин, которые хорошо проявили себя в войну, и теперь стремительно приближались к заветному «кругу».
И плакал-то Ворошилов, больше глядя не на лежащего с синюшным лицом Хозяина, а на Берию, стоящего в позе монумента и демонстрирующего величественность напополам с торжеством. И смотрел на него «первый маршал» откровенно заискивающим взглядом. «Зарабатывал на дожитие», что ли?
Вскоре – по распоряжению Берии – привезли Светлану, дочь Сталина. Она была настолько подавлена как зрелищем, так и действом, что оказалась неспособна ни на текст, ни на эмоции. Она лишь неподвижно сидела с окаменевшим лицом, и невидящими глазами смотрела на тело отца. Лишь изредка, словно очнувшись от забытья, она начинала гладить его по сухой горячей руке, хотя бы «на дорожку» вспомнив о статусе дочери.
Булганин – добряга «по жизни» – не выдержал испытания чувством. Обняв Светлану за плечи, он начал гладить её по голове, говорить какие-то слова, и, в конце концов, под впечатлением собственных речей, неожиданно расплакался сам, так и не выжав ни единой слезинки из глаз Светланы. При взгляде на этот «обратный результат» Берия имел законное право матернуться хотя бы про себя: вот и поручай таким «профилактическую работу с объектом»!
Появилась новая бригада врачей. Они привезли какой-то громоздкий аппарат, долго пытались его хотя бы включить, долго шёпотом матерились, но всё вхолостую: и пытались, и матерились. Ничего не получалось: аппарат был новый, импортный, ни разу ещё не побывавший в деле. Словом, как сказал бы один товарищ, «дело это для нас – новое, неосвоенное». В итоге никто так и не понял, какое именно чудо они хотели сотворить с помощью этого «чуда техники». Если отработать за Иисуса Христа – по линии оживления – то это вряд ли. Пределом их мечтаний могло быть только одно: произвести впечатление на Берию. И они его произвели, и, как раз, приятное: аппарат не включился.
В конце концов, медики утомились, и с одного бесполезного занятия переключились на другое: начали «лепить»… нет, «не «горбатого»: пиявки на затылок Хозяину. Предварительно они заручились согласием трио Мясников-Лукомский-Тареев, а те, в свою очередь – согласием майора Браилова. Для этого потребовался лишь обмен взглядами: со стороны профессоров – вопросительными, со стороны Браилова – утвердительным.
Берия был настолько увлечён демонстрацией величия, что, по счастью, не обратил внимания на эти переглядывания. Хотя, даже в случае «обнаружения», ничего «предъявить по линии заговора» он не мог: не имел оснований. Для него не было секретом то, что профессора несколько лет работали вместе с Браиловым. И, тем не менее, давать Лаврентию Палычу лишний повод для подозрений было ни к чему. Особенно сейчас. А то ведь возьмёт и пустит в работу. Вместе с источником. За Берией «не заржавеет».
Получив «запрос» от коллег, Семён Ильич согласился, не раздумывая: в подобных случаях пиявки, хоть и бесполезны, но совершенно безвредны. А имитировать кипучую деятельность было важно и нужно: Берия должен был видеть, что события развиваются в точном соответствии с его планами, и ни на минуту не усомниться в подлинности усилий врачей.
– Сколько ему осталось?
Участники «монтажа» пиявок на мгновение оторвались от работы. На лицах медиков дружно, как по команде, отобразилось недоумение и даже страх. «Ему»? Разве так можно говорить о Хозяине? И действительно, голос, которым Берия озвучил вопрос, был не только далёк от сострадания: Это был голос «заведующего дыбой», интересующегося лишь в силу производственной необходимости. Не заметить это не могли даже рядовые «лекари от пиявок».
– Сколько ему осталось? – раздражённо повысил голос Берия, уставившись теперь на одного Мясникова. Лаврентий Палыч настолько вошёл в образ преемника, что ему уже было не до выбора слов, тем более, на конкурсной основе. Он рвался на трон, и лишние куртуазности были бы… только лишними куртуазностями.
Мясников пожал плечами.
– Трудно сказать… Кровоизлияние, судя по видимым последствиям – обширное… Организм сильно изношен… К тому же, возраст…
– Сколько?! – не снёс «высоконаучных надругательств» Берия. Мясников «профессионально» задумался.
– …Думаю, что сутки… Максимум, двое…
Берия посмотрел на часы. В этот момент неожиданно затрещал телефонный звонок. Трубку поднял Хрусталёв. О чём он говорил, не было слышно, но вскоре он подошёл к Берии, и зашептал тому на ухо, оглядываясь зачем-то на телефонный аппарат.
– Посылай всех к чёртовой матери! – хорошим, таким, рёвом, порекомендовал Лаврентий Палыч. Он уже не обращал внимания ни на момент, ни на уместность либо неуместность подобного тона.
Грохоча от усердия сапогами, Хрусталёв ринулся к телефону, но тут ему в спину донеслось:
– Постой: я сам их «пошлю»!
В отличие от Хрусталёва, Лаврентий Палыч был очень даже слышен.
– Ты, лекарь хренов! – загремел в коридоре его резкий голос. – Если ты ещё раз сунешься со своими рецептами, я прикажу стереть тебя в лагерную пыль! Самого мелкого помола! Ты понял меня, эскулап собачий! Пилюлькин, мать твою!
Вскоре он вернулся, и, обращаясь к одному Маленкову, но так, чтобы слышали все остальные, громко сказал:
– Звонят всякие шарлатаны! Лезут со своими знахарскими снадобьями! Все рвутся спасти этого «дорогого вождя»!
Столько яда и презрения было в голосе Берии, что Браилов испугался, как бы Хозяин не выдал себя прежде времени. Но Иосиф Виссарионович оказался дисциплинированным соучастником «контрреволюции». Он, если и покривил лицом, то в общем «контексте» страдальческой мимики это было большей частью незаметно, а меньшей – естественно.
Из района входных дверей донёсся какой-то неясный шум. Спустя мгновение он «прояснился». В зал вломился в генеральской шинели нараспашку Василий Иосифович – сын Иосифа Виссарионовича. Был он, как всегда пьян, а дополнительно к этому ещё и практически невменяем.
Во всяком случае, полубезумный взгляд его бешено вращающихся глаз не давал ни малейших оснований усомниться в верности такого предположения. Применительно к Василию Иосифовичу другого и быть не могло.
– Не уберегли, сволочи! – не успев ещё толком ввалиться в дверной проём, аттестовал он соратников, а заодно и «поздоровался». – Сгубили отца, гады!
Булганин, потерпевший фиаско в деле утешения Светланы, решил «попытать счастья» ещё раз.
– Что ты, Васенька? – испуганно запричитал он, хватая генерала ВВС за рукав шинели. – Что ты, родной?
Испуг его имел под собой основания: так отозваться о «самих» Лаврентий Палыче?! Ну, ладно, о нём, или, там, о Хрущёве: и не такое сносили, но о Берии?!
Василий Иосифович внезапно оборвал крик, на мгновение остолбенел, словно определяя принадлежность руки, а затем – видимо, определил – резко стряхнул руку Булганина с плеча и добавил вращения глазам:
– Я тебе не Васенька-Петенька! Я – Василий Иосифович, сын Иосифа Виссарионовича! Слышишь, ты, маршал хренов?
В этот момент он вдруг увидел отрабатывающую маятником Светлану, и кинулся ей на грудь.
– Света! Родная! Отца погубили! Сгубили, сволочи, отца!
Совершенно безумными глазами он обвёл находившихся в комнате, словно выбирая жертву своего внимания – и остановился взглядом на Берии.
– Это – заговор… Заговор… Отца убили… Я докажу… Я всех выведу на чистую воду… Всех выведу… Всех…
Берия спокойно поковырялся спичкой в зубах, и, не оборачиваясь, бросил через плечо:
– Хрусталёв, выведи его пока одного… хотя бы на кухню. А то он не даст больному и умереть спокойно!
Это настолько отрезвляюще подействовало на Василия, что он пришёл в себя, всхлипнул и даже не оказал сопротивления Хрусталёву, когда тот бережно взял его под руку, и повёл к выходу, по пути обдавая лаской и уважением:
– Василий Иосифович, пойдём ко мне в апартаменты: я дам Вам лекарство…
Уважение в такой форме Василий принимал всегда, даже от нижестоящих холуёв. Когда они с Хрусталёвым растворились в просторах коридора, Берия опять взглянул на часы.
– Значит, говорите: сутки, максимум, двое?..
Он на мгновение задумался.
– Тогда нам нужно установить посменное дежурство у ложа больного.
Он покосился на Сталина – и в очередной раз «лягнул» его:
– Лежит тут, сволочь, а мы должны вокруг на цырлах ходить!