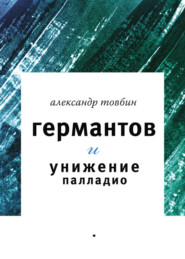По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Приключения сомнамбулы. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Между тем, мечты-мечтами, а желания приступить к пространственной компоновке текста – возможно оттого, что не было ещё никакого текста – он пока что не ощущал.
Записал только на полях: архитектура как эзотерическая игра – и, продолжая терпеливо накапливать опережающий контекст, метил в конец по сути ещё не начатого романа.
что происходило при накоплении контекста, как выглядел и что испытывал Соснин, очутившись в последней точке своего воображаемого романа
Загадки, ловушки, намёки опережающего контекста накапливались, по сути, превращая всю эту вступительно-заключительную часть текста в досадную, утомительно-растянутую загадку… из будущего, из не написанного ещё романа, из последней точки его, в аморфные, необжитые пространства замысла беспорядочно летели, угрожая размозжить голову Соснина, предметы, каждому из которых предстояло подыскать место, летели клочки событий, впечатлений, разговоров, которые предстояло склеивать, летели горбатые и прямые носы, мокрые и сухие губы, румяные щёки, бледные лбы – заготовки для лиц героев, вот породистый нос Валерки Бухтина, вот язык Тольки Шанского, длинный-предлинный, вот взмахивает ручищей, возражая Шанскому, Антошка, могучий и громкоголосый Антошка Бызов; а вот пролетел тяжёлый альбом с проектными откровениями авангардиста-Гаккеля, вот дрожащий от волнения классицист-Гуркин путешествует на лету указкой по спроецированной на мятый белый экранчик старой карте Флоренции… совсем уж неожиданно пролетела инфернальная Жанна Михеевна, подкрашенная, с подсинёнными веками, в чёрном вечернем платье, на ящике с полусладким шампанским. И летели, невообразимо смешиваясь, звуки, буквы… имена героев, черты их лиц, подвижные контуры фигур, разрозненные слова, частички их пока что бессвязной речи, ей следовало обрести элементарную строгость, и много ещё разнородной засоряющей ерунды летело, благо замысел жаден и терпим, ничего с порога не отвергает, ну а само будущее, то самое будущее, которое Соснина с головой накрыло, воспринималось теперь, при попытке писать, как порыв встречного, сбивающего с ног ветра… он падал и упрямо поднимался, потирая ушибы, контекст накапливался, а он… один бог мог видеть то, что творилось с ним!
Противно заскрипели ворота, нервно дёрнулся – хоть бы смазали петли…
Находясь внутри замысла, внутри зыбкой, не сложившейся композиционной структуры, чувствовал, что выброшен из неё вовне, на край её, неопределимую оконечность, и уже стоит на последней точке, вглядывается в обратную перспективу текста, где всё то, что только что беспорядочно летело навстречу, волшебным образом собралось и склеилось, и, пожалуйста, на проводах Шанского, отбывающего в Париж, можно познакомить читателей с главными героями ещё не написанного романа. А что? Ведь и в жизни бывает так, что попадаешь вдруг в чужую компанию, поначалу чувствуешь себя неуютно, не понимаешь, кто есть кто, о чём говорят. С удивлением и сам Соснин читает в обратном порядке страницу за страницей, узнаёт лица, голоса, события, преображённые подсветкой искусства, читая пролог с эпилогом, обнаруживает, что уже эпилог завидует прологу, силясь скорее предварять, нежели завершать, а оттуда, из пространств будто бы законченного, отредактированного романа, в эту самую финальную точку, способную вместить фантастически уплотнённую вселенную, врываются ураганом темы, образы, и он уже вновь едва удерживается на ногах, сюда же коварными огненными шарами несутся то ли молнии, то ли болиды, – поразят цель, так народившаяся вселенная расколется, опять обратится в хаос.
И если бы можно было увидеть Соснина балансирующим в желанной опасной точке, но деликатно не заметить на нём застиранной больничной пижамы, то кое-кому из театралов среднего и старшего поколений припомнился бы, наверняка, коронный номер заезжего мима с печальной меловой маской вместо лица, который, оставаясь в центре алого круга, пластично разводя руки, перебирая босыми ступнями, упрямо шёл навстречу урагану, свободные развевающиеся одежды трепетали языками пламени, и получалось захватывающее зрелище, хотя понятно было, как оно получается – в кулисе жужжал вентилятор, малый в белой нейлоновой рубашке, возившийся с софитами и цветофильтрами на тесном балкончике, бесстрашно задевал алый луч, обагряя локоть или плечо.
Заскрипели, закрываясь, ворота.
Но, может быть, достигнув последней точки своего ненаписанного романа, Соснин выглядел не так уж эффектно?
Пожалуй, и впрямь – как было дело, если попытаться всё же всё по местам расставить? Мысленно шёл против ветра, который дул из будущего, потом, упрямец, достиг последней точки воображаемого романа, оглянулся на него, на свой завершённый, совершенный роман, и тотчас же ветер поменял направление, подул, шелестя страницами, в разгорячённое творческой удачей лицо, подул – из прошлого? Путаная, противоречивая, неубедительная картина, если не вспоминать о круге, примиряющем взгляд вперёд со взглядом назад, замыкающем будущее и прошлое. А мы вспомним вдобавок к кругу пустой причал ожидания и просто-напросто представим Соснина съёжившимся, продрогшим один на один с холодным ветром, которому почему-то не под силу разогнать густой тяжёлый туман.
Допустим, представили… но не возникала ли при этом новая какая-то несуразица? – в ушах свистели бы, смешиваясь, ветры будущего и прошлого, и он бы встречал корабль, не нёсшийся к нему на всех парах или парусах, а лишь дрейфовавший где-то неподалёку в тревожном штиле желаний, и он пытался бы разглядеть тонущие в тумане контуры, хотя в лучшем случае мог увидеть расплывчатое пятно. И он знал бы уже кто должен приплыть, слышал сквозь гул и дрожь машины, стоны снастей, знакомые голоса, как если бы не понимал, что ждёт корабль, который ещё не спустили на воду, что не выбрана даже красотка в блёстках, которая, белозубо залившись смехом, разобьёт о железную махину шампанское, – с надеждой всматривался в муть, ждал, ждал, хотя в наличии был лишь недостроенный стапель и неизвестно было сколько будет у корабля труб и палуб.
уточнение
Впрочем, пора бы привыкнуть к сознательно-бессознательным вывихам ли, вывертам Соснина и никаким внутренне противоречивым, даже нелепым с точки зрения здравого смысла, предположениям на его счёт больше не удивляться.
Отметим лишь, что он и в самом деле ничего бы не сочинил, ни странички, ни строчки, если бы не читал ненаписанный роман повлажневшими глазами. Он, практически здоровый, был безумен, несомненно – безумен! Кто ещё из самых тяжёлых пациентов с пухлыми историями болезней, без обиняков считавших их сумасшедшими, мог видеть ещё ненаписанный текст, видеть и дёргаться от его огрехов, видеть, что какое-то слово мешает ещё не составленной фразе, о, он мог и проснуться ночью, в пропахшей мочой и потом палате, чтобы вычеркнуть отсутствовавший абзац. Так он, спросите, не только читал от конца к началу? И от начала к концу, ответим, и от конца к началу, и пустые страницы умел, как никто из больных, читать. Однако речь не о самом медицинском феномене, не об опасных – или спасительных, если всё же поверить утешителю-Душскому – для психического здоровья вывихах, вывертах. Где бы автор, точнее, автор, прикинувшийся персонажем, не находился – внутри ли компонуемой вещи, снаружи, перебегая глазами туда-сюда по пустым страницам, он в любой из своих сомнительных позиций, в любом проявлении своего безумия знал наперёд то, чего ещё не могли знать будущие читатели. Но не спешите завидовать – ему, столько всего узнавшему, не хватало какой-то особенной проницательности. И он всматривался в поверхностно и торопливо исписанные, густо набранные или пустые пока страницы с жадной критичностью из последней, пусть и условно помеченной на окружности, но последней точки, из этого символа исчерпывающей полноты авторских знаний. Всматриваясь вперёд ли, назад, в туманности романных пространств, он при каждом повороте туловища, головы чудесным образом пополнял свои знания, достраивал и перестраивал текст, коего ещё, по правде говоря, не было; он, отдавшийся магии предвосхищения, был тих, замкнут и – как не повторить? – по крайней мере, со стороны мог бы показаться умиротворённым.
И поэтому он, скорее всего, не стыл на ураганном ветру, встречая корабль-призрак, не корчился грациозно в зажигательном пантомимическом шоу, чтобы сорвать овацию.
Скорее он мог бы напомнить работящего заботливого садовника, который умиляется зелёному фурункулу завязи, загадывая в нём спелый плод.
вернулся к началу
В кульке были отменные абрикосы.
Бездумно выбирая бархатистую румяную жертву, Соснин в который раз спрашивал себя: отчего же взвихрились мысли, воспламенились чувства?
Да, дом упал, событие породило слухи… потом столько всего повалилось и навалилось, столько всего увидел, затянуло в воронку…
Но почему это смогло случиться? И для чего?
приступая к сухому изложению фактов и обстоятельств
Чего-чего, а фактов, способных пролить свет на вопиющие обстоятельства случившегося, в распоряжении взбешённого и испуганного городского начальства, которое хотело показательно покарать виновных и само же боялось верховной, кремлёвской кары, собралось уже предостаточно.
Сперва факты копила, дотошно анализировала и систематизировала комиссия по расследованию, многими, если не всеми успехами, обязанная энергии и цепкости своего председателя. Потрудившись и на страх, и на совесть, комиссия выпустила для служебного пользования переплетённый в коричневый коленкор, свежепахнущий столярным клеем трёхтомный отчёт, его, будто фото безвременно ушедшего во цвете лет составителя, открывала обведённая тушевой рамкой эффектная перспектива погибшей башни, и всякий, кто имел бы допуск и знал толк в подобных делах – хотя, справедливости ради, нельзя не вставить, что дело-то было исключительным, ему даже в отечественной практике не отыскалось аналога – мог бы не без поучительной пользы, пусть и морщась от клеевого душка, покопаться, полистать и подивиться стойкости конструкции, доведённой-таки, вопреки её сопротивлению, до предельного состояния. Чувства законной гордости и удовлетворения у председателя комиссии – не сомневайтесь, Владилен Тимофеевич Филозов заслуженно станет одним из главных героев повествования – а также у отдельных членов комиссии, Фаддеевского, к примеру, вызывали те разделы отчёта, где в таблицы была сведена аналитическая информация, дышавшая ледяной бесстрастностью математики. Проверочные расчёты, которые выполнила мощная ЭВМ рекордного быстродействия, по специальному партийному указанию отвлечённая на гражданские нужды от межконтинентальной баллистической кривой государственной важности, недвусмысленно доказывали безупречность и, стало быть, непричастность к причинам катастрофы выбранной конструктивной схемы, до последней секунды надёжно сопротивлявшейся полезной нагрузке, кручению и ветровому изгибу, как по отдельности приложения этих опасных сил, так и в сверхопасной их совокупности…
усмешка
И доказывали ясно, строго, оперируя в рамках непостижимой для Соснина математической условности всего двумя цифрами: страницу за страницей заполняли дородные нули, лишь кое-где краплёные единицами, и эта откормленная отара нулей обдавала Соснина, не принадлежавшего к восторженным поклонникам машинных вердиктов, пыльной скукой – нехотя перелистывая отчёт, он, не иначе как из врождённого чувства противоречия, почему-то ждал встречи с захудалой единицей как избавления, хотя нет-нет да мелькала назойливая догадка, что и целая страница единиц не только не выхлопочет ему прощение, что, впрочем, вполне понятно, но и не сможет усугубить наказание.
по-прежнему сухо, хотя и с подспудно закипавшим волнением
Вслед за отчётом комиссии начала быстро расти ещё одна, смежная, гора фактов, которую готовилась представить на рассмотрение суда прокуратура.
Опираясь на техническую подоплёку случившегося, эта гора, так сказать, шла навстречу человеку или, как принято нынче говорить, вводила в и без того щекотливое существо дела человеческий фактор, ибо прокуратура должна была опять-таки объективно, но в отличие от математического языка комиссии, в отшлифованных юриспруденцией выражениях оценить степень виновности будущих подсудимых, подозреваемых в преступной халатности, или же, напротив, снять с кого-нибудь из них подозрения, чтобы на законном основании решать, кого надо действительно взять под стражу. Следствие, копившее и с обвинительным уклоном интерпретировавшее угодные ему факты, бурно продвинулось вперёд, когда на решающем этапе его возглавил специалист по особо важным делам, юрист с международным авторитетом – о, Остап Степанович Стороженко, ещё один герой повествования, много, очень много успел всего за несколько дней, остававшихся до начала показательного процесса, так как привлёк на службу следствию секретные архивные данные, организовал поиск доказательств и сами процедуры дознания с размахом и чёткостью, пустив по следу истины ультрасовременные методы криминалистики; тонкий психолог, он чтил науку. – Человек, – очаровательно улыбался он, – творит чудеса не по наитию, а лишь подводя под творчество научную базу.
у Соснина зачесались руки тут же набросать досье-портрет Стороженко
Начал неторопливо и обстоятельно, даже тяжеловесно: «у Остапа Степановича были редкие русые волосы, аккуратно зачёсанные наверх, а под открытым плоским лбом симметрично располагались правильные, прямо-таки отточенные, но мелкие черты лица, и, так как голова с учётом среднего роста достигала нормальной величины, между маленькими глазками, прямым, без намёка на горбинку носиком, гибкими влажными губками простирались пустоты, затянутые бледной пористой кожей. Бледность, наверное, объяснялась умственной нагрузкой, которую добровольно взвалил на себя и исправно нёс этот недюженный человек…».
Задумался, мечтательно улыбаясь.
Потом и вовсе едва сдерживал смех, вспоминал перипетии допроса.
какой ценой и с какой-такой целью (заряженной чиновным страхом, чувствами партийного долга, задними мыслями) комиссией и следствием добывались и объяснялись факты
Конечно, конечно, подробнее об Остапе Степановиче – дальше. Но хотя и так вполне ясно, что уж кем-кем, а дельным человеком он, слегка кокетничая, называл себя с полным на то основанием, наверное, не помешает, не откладывая на потом, сразу же коснуться его влиятельности и хваткой целеустремлённости – какой всё-таки боевитый тандем составили Остап Степанович и Владилен Тимофеевич, какой тандем! – исключительно благодаря бесценным в наше время личным достоинствам Стороженко удалось придать делу отвечающую ему масштабность и объявить всесоюзный розыск шофера такси, случайного свидетеля ночной катастрофы, потом, когда поднялся дым коромыслом, находившегося, как назло, в очередном отпуске.
Обгорелого до волдырей шофера нашли на пляже близ Кобулетти, где он неосторожно баловался коварным весенним солнцем, привезли в сопровождении, тщательно сняли показания про рёв, про промелькнувшую в зеркальце заднего вида подозрительную фотовспышку на одном из ближних балконов. Однако к тому времени компетентные органы с отщепенцем-фотолюбителем уже разобрались, готовились даже выпроводить его на историческую родину. Оставалось поспешно, сломав плановую сетку, поручить головным закрытым лабораториям имитацию реактивными авиационными двигателями рёва катастрофы, и те, стоило включить звуковые тренажёры-имитаторы в обложенных акустической пробкой боксах, преодолевали без устали один звуковой барьер за другим, а оглушённый таксист парился в специальном шлеме, защищавшем от побочных шумов, которые музыкальной ли трансляцией, пролётом случайного насекомого или сердцебиением лаборантки, приросшей к пульту, могли примешаться к звуковым волнам опыта, поставив под сомнение его чистоту, исказив непосредственность свидетельских показаний.
Вот уж влип в историю наш свидетель!
В конце концов, на долю Соснина выпала всего-то утомительная, пустая и уж точно дурацкая, бурлескно-неправдоподобная беседа с Остапом Степановичем, и только попозже Соснин понял какие были у этого шута горохового длинные руки. А вот шоферу досталось крепко от следствия!
Видавший виды водила, который брал, конечно, как и все, чаевые, но водкой ночью не торговал, от ГАИ не скрывался, превысив скорость, и вообще вины никакой за собой не знал, не на шутку перепугался, когда двое в штатском сунули ему под нос, ещё мокрому от купания, красные книжицы и велели проследовать. Потом две недели кряду он моргал выгоревшими ресницами в продолговатом оконце шлема, включённого в сеть, и слушал рёв из микродинамиков – рёв на узких, будто отрезки ленты для снятия кардиограммы, бумажных полосках протоколировали для башковитых спецов-акустиков волнистыми линиями быстрые самописцы – и сдавленно докладывал в миниатюрный микрофон похоже ли ревёт, не похоже.
На исходе второй недели оглушительных экспериментов добились-таки нужного тембра, из графической записи страшных звуков, наконец, стала вырисовываться умопомрачительная картина обрушения.
Да-да, прокуратура по сути продублировала работу комиссии, привлекая для экспертизы лучших в своих сферах учёных, и они, точно так же, как и не менее компетентные учёные, подобранные для решения сходных задач комиссией, переводили звуковую интерференцию на цифровой язык статики и динамики, сличали лабораторные результаты с ощущениями всё видевшего и слышавшего, едва не лишившегося слуха таксиста, затем согласно терялись в догадках относительно того, что же падало раньше – центрально-стволовые или обрамляющие конструкции.
И это ещё не всё, в такой горячке кто смог бы сохранить холодную голову?
С помощью светил-взрывников, не удовлетворённых накопленными данными и изучавших вероятностную модель обрушения, которую по рекомендации Остапа Степановича составили наподобие словесного портрета преступника, удалось и вовсе загнать проблему в тупик: получалось, что шофер, слышавший рёв, якобы отчётливо видевший оседание башни и разлёт крупных обломков – разве это не позволяло описать катастрофу с использованием взрывных аналогий? – с перепугу что-то соврал или напутал, так как, если верить скороспелой модели, озвученной шумовыми эффектами, которые отобрал свидетель, – а хоть чему-то хотелось верить! – обрушилось всё здание сразу, словно вмиг рассыпалась в пыль и развеялась ночным ветром вся-вся-вся, до последней клеточки усталая, безразличная к постылой жизни материя; тем более, что наутро никаких обломков на снегу действительно не осталось… только мокрое место… о, в этой катастрофе с исчезнувшими следами угадывалось столько символики! Хотя для узких, остепенённых, в большинстве своём защитивших докторские звания специалистов, преуспевших в точных науках, такая антинаучная картина обрушения оборачивалась кошмаром, непостижимым и оскорбительным, их охватывало профессиональное отчаяние, шофер, доказывали они, понадеявшись на свою шумовую память, мог легко исказить истинное звучание катастрофы, ибо тотчас же, в мгновение ока, не перевёл увиденное обрушение на язык децибелов, а расчёты, проверенные и перепроверенные, не врали! Нули говорили сами за себя: железобетонная материя вовсе не должна была испытывать чрезмерных усилий, ей вроде бы и уставать было не с чего… Конечно, ни в какие ворота не влезающие посылки надлежало опровергнуть, сняв противоречия в новой серии ещё более строгих экспериментов, однако подпирал срок показательного процесса, а Смольный не привык ждать, и потому Остап Степанович просто-напросто отбросил противоречия и своею теневой властью прекратил научную тягомотину, со свойственной ему напористостью и как раз к началу судебных слушаний удачно дал ход главной из задних мыслей – обвинение сосредоточилось на местоположении и пропорциях одного из окон на торце злополучной башни; как жёлчно ухмылялся Остап Степанович, расспрашивая об этом окне! – местоположение и пропорции окна, конечно, совсем не обязательно послужили причиной катастрофы, но уж во всяком случае, ничем таинственной причине, её вызвавшей и пока что напрочь скрытой от научных работников, не помешали. Этот-то вывод, заранее заготовленный ушлым следователем, но вроде бы рождённый импровизационно, вроде бы внезапно осенивший его на допросе и там же убедительно подтверждённый сомнительным на взгляд Стороженко поведением Соснина, шаткостью художественных и – главным образом! – идейных позиций… да, ударный вывод удалось, пусть не вполне бесспорно с обывательской точки зрения, но зато юридически корректно, чётко и выпукло сформулировать в прочно сшитой белыми нитками тетради, приложенной к объективным данным экспериментов, которые вместе с захватанными жирными пальцами томами обвинительного заключения вложили в толстенные папки с чёрными обувными шнурками-завязками и наклеенными бумажными квадратиками с аккуратно выписанными на каждой папке номером дела.
Слов нет, солидные, весомые получились папки.
Уходя в совещательную комнату, судья и заседатели еле-еле тащили неопровержимую тяжесть фактов; понимая, что они надрываются и по его милости, Соснин злорадно хохотал им в спины с неукротимой, прямо-таки оперной мощью басов.
что к чему? (с учётом опережающего контекста)
Напомним, однако, что мотивы хохота, равно как этимологию душевной болезни, сколько ни старались, так и не распознали, и поэтому слово «злорадно» остаётся на нашей совести. Если же заражённый здоровым скептицизмом Соснин, прежде чем публично расхохотаться, и кривился в усмешке, наблюдая огромную и – будем справедливы – заслуживающую уважения расследовательскую работу, то это непроизвольное мимическое движение тем более не стоило бы пенять ему – заподозрив, будто он считал проделанное комиссией вкупе с прокуратурой пустым или излишним, вы бы наверняка впали в глубокое заблуждение.
Напомним главное – другому на его месте было бы не до смеха, а он был благодарен своей беде.
Да-да, дом упал и – началось!
Рёв, грохот, а Соснину послышался удар гонга!