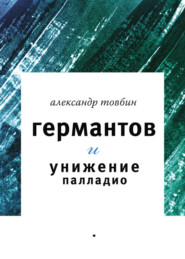По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Приключения сомнамбулы. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Да, именно горячка с составлением коленкорового отчёта комиссии внезапно открыла Соснину дверь в комнатку с трещиной на стене, где и повалились на него, как снег на голову, побочные, не имевшие отношения к делу, но зато задевавшие его за живое факты… и сколько ещё сваливалось потом, слепливаясь в историю.
И хотя, поддавшись массовому психозу отмахиваться от сложного, непонятного, легко посчитать сказанное ниже дутой многозначительностью, Соснин, всматриваясь сейчас в случившееся, видел в разнородных фактах звенья одной цепи, которая приковала его к этой начавшейся со всеобщего трам-та-ра-рама, а по сути лишь одного его затронувшей, лишь его разбередившей истории. Он прозревал наличие между разнородными фактами изначальной связи, указывавшей не столько на совпадения, сколько на вмешательство провидения, чья невидимая длань как бы невзначай вытягивала из клубка случайные нитки. Благодаря ему, такому вмешательству, собственно, и завязывались нервные узлы повествования: вот хотя бы крымские, взятые у матери, фотографии, вот пачка оставшихся от дяди, стянутых резинкой старых фотографий и писем, вот чудом попавший к Соснину дядин дневник. И – фоном – слепой дождь, и солнце, запылавшее на дядиных похоронах; теперь вокруг густо заросшего кладбища на Щемиловке, где похоронили Илью Марковича, новые панельные дома, много новых домов.
Разумеется, упоминание обо всём этом сейчас с точки зрения композиции романа покажется преждевременным, а с логических позиций и вовсе нелепым, так как не внесёт ясности, а лишь усугубит путаницу, однако для накопления опережающего контекста коснуться неожиданных фактов было бы не бесполезно. А поскольку круги, которые описывали чувства циркулем мысли, получались разного, подчас огромного радиуса, охватывающего всю художественную вселенную Соснина и, стало быть, вынашиваемый им, воображённый текст, то, извинившись за самоцитирование, стоило бы вырвать наугад какой-нибудь бесформенный эпизод с двухсот тридцатой или четырёхсот восьмидесятой, но равно отсутствующих пока страниц… ну вот, хотя бы этот… или, если угодно, тот – да, нити вытягивались из клубка, связи между разнородными фактами действительно обнаруживались, правда, разглядеть их пока было трудно, пожалуй ещё труднее, чем узнать в лежащей в растрескавшейся комнатке измученной болезнью старухе, откинувшейся на только что взбитую подушку, молодую улыбающуюся даму в мехах, с муфтой; она стояла об руку с обсыпанным конфетти, но нарочито серьёзным господином в цилиндре, за ними беспорядочно торчали стволы с косо размазанными по сугробам тенями.
– Снято утром на Островах, после встречи Нового, 1914 года, – живо сообщила, опять взбивая подушку, давняя подруга больной, словно мумифицированная, но редкостно для своих фантастических лет подвижная, по-балетному грациозная старушка с прямой спиной, – вскоре Илья Маркович уезжал в Италию…
Ох, многие, даже пробежав крохотный эскиз-эпизод глазами, привычно примутся бурчать, что, поверив ли в указующий свыше перст, таинственную всемогущую длань, тянущую за нити, Соснин преувеличивал значение произошедшего с ним, спешил в ущерб общей ясной картине выпятить какие-то невнятные мелочи, заставлявшие лишь провисать внимание, тогда как всё следовало объяснять попроще, попонятнее, и, главное, побыстрее, а Соснин бы продолжал стоять на своём, искренне полагая, что не только искусство, но и сама жизнь испытывает нас день за днём загадками опережающего контекста.
Простейший пример – пространственный.
Допустим, подъезжал бы Илья Маркович на рассвете к Риму, как к незнакомому какому-то городу, с волнением бы приникал к оконному стеклу вагона, не зная, что он вскоре увидит, и тут начал бы всплывать над пепельными холмами купол… потом с первыми лучами солнца войдёт Илья Маркович в собор Святого Петра, потом, а пока, издали… Разве не жизненное, до дрожи доводящее испытание путешественника? – загадочная знаковая частица чего-то огромного, опережающая цельное впечатление от собора и площади, от всего Рима.
Или – другой пример, посложнее и при этом забавнее, пример пространственно-временной, если угодно.
Допустим, Марк Аврелий, уснув в седле своего бронзового коня, проспал долгие столетия, а, открыв глаза, скользнув властным удивлённым взором по чужим темноватым дворцам и церквям, почему-то теснившимся у подножия Капитолийского холма на месте привычных беломраморных колоннад и фронтонов, извечно подпиравших треугольниками синее небо, боковым зрением увидел бы слева ещё и автомобильный поток, лихо огибавший театр Марцелла. Неужто, и при всём своём стоицизме император сохранил бы невозмутимость и гордость осанки при виде торопливых колёсных посланцев нового времени, – неведомого времени, сулящего, как умнейшему из императоров сразу стало понятно, уйму неожиданностей и несообразностей?
В словесных порядках всё, увы, выглядит не столь естественно или, согласимся, противоестественно, как в досужих наших примерах, как и вообще в городских пространствах, наглядно развёртывающихся во времени и временем перестраивающихся. Да, в словесных последовательных порядках, подчиняющихся, хочешь-не-хочешь, логике, могут вызвать недоумение и протест ни с того, ни с сего опережающие суть цепи загадок, фрагменты картин и фраз, вся их круговерть, выдаваемая за невразумительный анонс поджидающего впереди содержания, за содержание творческого поиска во всяком случае. Да, текст такой сперва становится тестом на терпение, на доверчивость к автору, не зря, наверное, терпением читателя злоупотребляющим, – до конца дотерпите и всё, даст бог, прояснится. А пока раздражающе мелькают ничего не объясняющие имена, лица, обстоятельства, обрывочными фантазиями на темы романа подменяется сам роман, однако повторим: жизнь, та самая, натуральная и актуальная, повседневная жизнь, которую по всем канонам реализма вменено отражать искусству, тоже начинена ведь неразличимо-невнятными частицами будущего, как бомба порохом, и потому сплошь и рядом путает нас, укрывая до поры-времени рисунки судеб, назначения их – утомляет затемнением своих целей и долгим-долгим ожиданием света, дразнит загадочностью судьбоносных намерений, пугает предчувствиями, а потом вдруг, в награду за терпение и упорство приоткрывает свои секреты. И тут уж как повезёт: бывает, убивает, бывает, что трогает душевные струны, просветляет, если хотите. И не зря, ей-ей не зря, выйдя ли на обледенелую улицу, спускаясь ли ещё по лестнице, пропахшей кошками, во всяком случае, совсем неподалёку от растрескавшейся комнатёнки Соснину послышался свербящий мотив покаяния, на миг стали ватными ноги, и сразу он ощутил, что скоро откроется где-то волшебный кран, польётся творческая энергия.
как сочинение художественного текста выливалось в собирание-перекомпановку осколков какой-то былой гармонии и (преимущественно – безуспешное) разгадывание складывавшихся из этих осколков головоломок
Стоит ли и дальше судить-рядить мог ли, не мог Соснин, заподозрив высший промысел в своей трудно объяснимой причастности к чужеродным, но согласно намекающим на возложенную на них общую сверхзадачу фактам, не увязывать их по-своему, не поглядывать на них, собранных вместе, со своей колокольни?
Ведь, если не забыли, он по-прежнему разгадывал хаотический текст, разорванный и обгорелый, заполнял пробел за пробелом, силясь подогнать мысль к мысли, эпизод к эпизоду. А когда разгадывают что-либо, да ещё при этом входят в азарт, питаемый вдохновением, то за любой намёк, за любой, хоть и случайно сложившийся узор фактов, хватаются, как за ключ, открывающий замок тайны. К тому же разгадывался этот бог весть кем придуманный и завладевший затем воображением Соснина текст-руина для того, чтобы, фрагментарно возрождая его и в меру разумения упорядочивая, приобщаться к поверженной, но полнокровно жившей где-то и когда-то гармонии. Поскольку многие, увы, очень многие осколки былой гармонии, судя по всему, исчезли бесследно, он, улавливая любой намёк, присматриваясь к любой загогулинке в узоре фактов, воссоздавал на свой лад эти рассыпанные, как битый витраж, исчезнувшие осколки, отчего приходилось менять форму и цвета остальных осколков, вроде бы уцелевших, по крайней мере, тех из них, которые соприкасались с воссозданными…
Да-а-а, легче-лёгкого надуть губы – дескать, не хватит ли отвлекаться на осколки и загогулинки, не пора ли проникнуть в глубину взглядом?
Надо ведь ещё понять как проникнуть, как пересказать увиденное!
Не забывая о странной сверхзадаче, условия которой передоверяли Соснину факты ли, осколочные узоры, не входя пока в методические поиски решения, заметим попутно, что любой чего-то стоящий текст способен сообщать что-либо, лишь обучая желающих его понять, специфическому языку сообщения. Нашему герою, конечно, такого желания было не занимать, однако новый для него язык хаотического текста он сам ещё только-только начал осваивать: знаки – как и взблескивающие осколки того самого разбитого витража – завлекали подмигиванием смысла, но при первой попытке этот смысл назвать, он, искомый смысл, тут же свёртывался в головоломку.
Когда же Соснин звал на помощь простейшие житейские факты, которые, свалившись на него, собственно, и разбудили в нём интерес к разгадыванию головоломок, то и простейшие эти факты вместо того, чтобы что-то ему подсказать и смиренно стушеваться затем, обрастали необязательными мыслями, принимавшимися бесцеремонно заигрывать с мыслями важными, обязательными – захлёстывала кутерьма почище той, что утомила ещё страниц двадцать-тридцать тому назад, когда мысли отцеплялись и прицеплялись, тут же обнаруживалась путаница сюжетных линий, как если бы все они вопреки благим намерениям сплетались в никак не упорядочиваемый – бессюжетный? – узор, который и сам-то по себе оказывался головоломкой, к ней тоже надо было подбирать ключ.
Что же, сбиваясь на менторскую тональность, не вредно было б заметить, что обучение языку и впрямь занятие муторное, многоступенчатое, требующее прилежания.
Однако Соснин не унывал.
Не собираясь возводить отношения мысли и слова в болезненный культ, он отправлял не складывающиеся воедино соображения перебродить в сознании, а сам, пока брожение протекало как бы независимо от него, с удовольствием жевал абрикосы, радовался солнцу, размалевавшему жёлтыми мазками газонный коврик, и с мечтательно-глуповатой миной вслушивался в картавую перекличку ворон, которая, как могло почудиться при взгляде на Соснина со стороны, куда больше занимала его, чем дурная бесконечность языковых заторов на пути смысла.
жуя абрикосы, радуясь солнцу, прислушиваясь к воронам, он всё же о чём-то думал
Достаточно искушённый в подвохах художественного восприятия – с его мерками Соснин, между прочим, не стеснялся подходить и к восприятию жизни – он, чтобы продлить передышку, готов был лишь наскоро сравнить сумятицу мыслей, смятение чувств с неизбежным при столкновении с чем-то новым и сложным отказом зрения, отнюдь не сразу находящего приятный контакт с увиденным.
Иногда ведь надо привыкнуть к темноте, дабы начать различать предметы.
Порой же наоборот – резкий свет, вспышка или прожекторный удар по глазам погружают до травинки знакомый мир в кромешную неразборчивость, вынуждают жмуриться, пережидать оргию оранжево-красных клякс, растекающихся напалмом по вогнутым сферам век.
Зато потом мир увидится ясно-ясно…
И ещё яснее, чем прежде!
И можно будет без помех написать о любви, детективных приключениях, мечтах с их сомнительной лучезарностью, о личных драмах, общественных встрясках, стычках добра и зла – обо всём том, о чём пишут, соблюдая литературные законы занимательности, в настоящих романах. И пусть дотошность объяснений и повторений рискует обернуться назойливостью, пусть пошла уже словесная пробуксовка – возможно, и впрямь помогающая собраться с мыслями – повторим во избежание недоразумений, что, уповая на образность языка искусства, парящего над схваткой дедукций, индукций, силлогизмов и прочих роботов мысли, взращённых причинной логикой, Соснин всё же время от времени морщил лоб, но не мучился, не страдал; пока его сознание превращалось в бродильный чан – он блаженствовал в предчувствии творческого раскрепощения, и оно наступало, и он плыл, плыл по волнам вдохновения, и можно было не очень-то погрешить против правды, подумав, что он, как и большинство сочинителей, пребывал в счастливом неведении относительно истинных трудностей своего занятия.
всего о нескольких обязательных операциях,
исключительно методических и технических
Что значит – собирал, воссоздавал, упорядочивал?
И что значит не вообще, а чисто технически – собрать осколки гармонии?
Воспользовавшись опять сослагательным наклонением, легко было бы допустить, что Соснин мысленно расслаивал нагромождения хаоса, чтобы увидеть воображённые слои по отдельности, поверить в их конкретность и, совмещая затем выделенные слои между собой так и эдак, придать вновь полученному, пока плоскостному и невразумительному узору композиционную завершённость и эмоциональную глубину…
И тут уже не удалось бы замолчать метод, который организует работу художественного мышления, связывая по той или иной индивидуально пригодной схеме обрывки умозаключений и чувственные импульсы в конвейер логических и технических процедур письма. Ну а рассказ о методе, потребовав своего метода, становился бы, сколько этому ни противиться, вдвойне схематичным.
Но если не побояться хотя бы недолгого соскальзывания в схематизацию, то, посчитав, что Соснин мысленно расслаивает хаос, а потом, вынашивая-воображая нечто гармоничное, переводит условные слои в нужный ему прозрачный материал и совмещает между собой, мечтая совместить разные планы повествования в объёмной и фактурной картине, которой он теперь, временно позабыв про Собор, Вавилонскую башню и конфуз с проектированием мироздания, уподоблял роман, вполне естественно было бы развить этот тезис и, вспомнив про возвратную поступательность, про круг, посчитать, что художническая устремлённость Соснина реализуется движением вспять, без которого нельзя ни шагу ступить вперёд, а для простейшей иллюстрации такой закольцованности творческого конвейера сослаться на раскладку цветов при изготовлении литографии, угадывающую итог их поочерёдного наложения.
Нет, мы не станем задерживаться на процедурах раскладки и тем паче на пунктике Соснина, для которого палитра была не клочком пробной бумаги или лекально вырезанной дощечкой с круглой дыркою для большого пальца, а, образно говоря, пространством замысла.
Отложим палитру.
Допустим, цвета подобраны.
Посмотрим, что получается при их совмещении.
хранившаяся про запас иллюстрация
(вспоминая уроки литографии с ненавязчивыми поучениями Бочарникова)
Под залившим верхнюю половину листа светло-голубым пятном, пахнущим типографской краской, появляется тёмно-синее, в бумажный просвет между голубым и тёмно-синим пятнами впечатывается неровная охристая полоска, по ней с помощью красноватых штришков разбрасываются коричневатые червячки и получаются небо, море, пляжная коса с загорелыми отпускниками, от наползания кое-где пляжа на краешек неба гребень косы зарастает травой, кустиками для переодевания, а горячее песочное прикосновение к синей прохладе там, где обычно скапливаются медузы и с шумом, гамом бултыхаются малолетки, вздувает прибойную волну бутылочного оттенка, и картинка делается близкой, понятной, и тут только мы замечаем, доводя до крайней остроты восторг доступности, что на нечто белое, вполне бесформенное и будто бы случайно оставленное не закрашенным на границе густой синевы и прозрачной голубизны, тоже был нанесён, оказывается, крохотный, размером с соринку, красный штришок, и вместе с мгновенно возникшей под ним чуть скошенной по моде трубой белая бесформенность становится безмятежным, в отличие от парусников, пароходом, турбоходом, дизельэлектроходом, ещё каким-нибудь плавучим новаторством, где труба не более, чем декоративная дань традиции. Но дело-то в конце концов не в трубе, а в том, что чудо превращения бесформенности в форму так поражает, что вместо других пробелов, по небрежности ли, неумелости вклинившихся меж синими мазками, натурально изобразившими морские, с пенными гребешками волны, уже хочешь-не-хочешь чудятся мельтешащие за кормой чайки.
от противного
Однако, положа руку на сердце, действительно ли поучителен тот давний изобразительный урок для текущих словесных опытов?
Несмотря на чудесные превращения, которые обещает крохотная штриховая деталь, несмотря на наличие залитого крымским солнцем пейзажа-мечты, рождённого от наложения на бумагу и ловкого совмещения между собой всего нескольких влажных цветовых пятен расплывчатых очертаний с просветами в виде крикливых белокрылых пернатых, эта отлично знающая свою цель, простейшая и нагляднейшая схематизация, хоть и помогая провести методическую параллель, всё же навряд ли прояснит, что, как и почему доискивался или, вернее, собирался доискиваться Соснин, а лишь докажет от противного, что искать он всё же будет что-то совсем другое, поскольку для раскраски милой, радующей глаз картинки, которой мы только что искренне полюбовались, не больно-то нужны были растревоженная совесть, самобичевание рефлексии и прочая чувствительная атрибутика высокого творчества, не посвящённого до поры до времени в свои цели, не говоря уже о том, что героя нашего, обожавшего живопись, не очень-то волновала зависимая от железного механизма с прижимным колесом, придуманная для тиражирования техника литографии, и – надеюсь, не запамятовали? – если и ждал Соснин встречи с плавучим символом немалого водоизмещения, то уж совсем другим, отнюдь не с комфортабельно-самодовольной круизной посудиной.
смотрим в корень
Сложной, не наглядной схематизации вообще не бывает – всякая схематизация упрощает и уплощает, а это-то принципиально и не годилось для Соснина, он ведь был убеждён в том, что непрерывное разложение-восстановление хаотичного, с превеликим трудом упорядочиваемого текста способствует полном у его пересказу. Недаром же Соснин преуспел в смешении на своей воображаемой палитре чего угодно! И недаром хаос сравнивался им с растрёпанной обгорелой книгой, битым витражом или руиной, а палитра с беспорядочно выдавленными и размазанными красками, к слову, разве и впрямь не служила для живописца пространством замысла?
Всё – вместе. И всё – вразнобой!
Но не по забывчивости или неуважительным для словесного искусства причинам языковой неряшливости, а потому лишь, что точное и ясное, бьющее в цель, но единственное – забавы ради целил косточками от абрикосов в стоявшую неподалёку урну – определение предмета или явления, если бы его и удалось вдруг найти и приклеить к предмету или явлению как этикетку…
Прервёмся, дабы чрезмерно не повторяться – Соснин шёл по кругу.
но