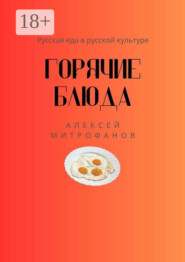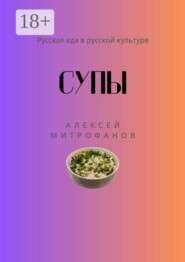По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Арбат. Прогулки по старой Москве
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Арбат. Прогулки по старой Москве
Алексей Митрофанов
Еще в начале двадцатого века Арбат был улицей тихой, спокойной, уютной. На Арбате в основном селилось небогатое дворянство (на каждые шестеро жителей – один дворянин, по Москве это было рекордом. Затем тут пустили трамвай, появились витрины модных магазинов. Дух «тихого центра» ушел безвозвратно.
Арбат
Прогулки по старой Москве
Алексей Митрофанов
© Алексей Митрофанов, 2017
ISBN 978-5-4485-8588-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
В честь чего названа эта улица – никто не знает. Есть немало версий происхождения слова «Арбат». Ну, к примеру, от слова «горбат». Но все-таки он прям, а не горбат. Конечно, кривоват немного, но не более, чем остальные улицы Москвы.
Некоторые исследователи считают, что «Арбат» так назван по персидскому слову «рабат», что означает «пристанище», а вернее – «богадельня». Да, действительно, в Москве имели место заимствования из всяческих восточных языков. Однако большинство историков практически уверены, что никаких тут богаделен не существовало.
Была и третья версия: Арбат – от латинского «arbutum», вишня. Да, вполне возможно, что существовали тут вишневые сады. Однако зачем переводить родную вишню на чужой язык, неясно.
А безупречной версии, увы, не существует.
Еще в начале двадцатого века Арбат был улицей тихой, спокойной, уютной. На Арбате в основном селилось небогатое дворянство (на каждые шестеро жителей – один дворянин, по Москве это было рекордом). Затем тут пустили трамвай, появились витрины модных магазинов. Дух «тихого центра» ушел безвозвратно. Борис Зайцев писал: «Образ юности отошедшей, жизни шумной и вольной, ласковой сутолоки, любви, надежд, успехов и меланхолий, веселья и стремления – это ты, Арбат. По тебе снегом первым летят санки, и сквозь белый флер манны сыплющейся огневисто золотеют все витрины, окна разных Эйнемов, Реттере, Филипповых, и восседает «Прага», сладостный магнит. В цветах и в музыке, в бокалах и в сиянье жемчугов, под звон ножей, тарелок веселится шумная Москва, ни о чем не гадающая, нынче живущая, завтра сходящая, полумиллионная, полубогемская, сытая и ветром подбитая, талантливая и распущенная. Гремят и вьюги над Арбатом, яростно стуча по крышам, колотясь в двери облаками снега. Но сквозь мглу и вой метели невозбранно проплывает седенький извозчик, в санях вытертых, на лошаденке дмитровской, звенигородской, как корабль нехитрый, но и верный. К Рождеству елки на Арбатской площади – зеленым лесом. Приезжают дамы в соболях, везут чиновники, тащит рабочий елочку на праздник детям. И, отбушевавши Новый год, в звоне ль шампанского, в гаме ли водочки с селедкой, входят в ледяной январь, бегут, краснея носом, с усами заиндевелыми, обдуваясь паром, – кто на службу, кто торговать, по банкам
и конторам. Кто – и по трактирам. Ночью же остро, хрупко-колюче горит Орион семизвездием, тайно прельщающим над кристаллом снегов».
Улица время от времени чудачила. В революцию 1905 года здесь, на баррикадах, появлялся Константин Бальмонт, а дружинников – арбатских революционеров – возглавлял скульптор Сергей Коненков. После революции 1917 года так называемым «буржуям» запретили пользоваться для очистки снега (обязательной повинности в то время) лошадьми. «Буржуи» с других улиц стали таскать снег собственными, человеческими силами – а арбатцы завели себе верблюда. Перед Великой Отечественной войной здесь на мостовой появились цветные, прозрачные кирпичи. Они подсвечивались снизу, и прохожие, нимало не смущаясь, топали по этой сказочной поверхности – опять же, уникальное тогда в Москве явление. А обитатели здешних домов вообще составляли своеобразное «арбатское братство» – почти «полумасонское», во всяком случае, не афиширующее себя сообщество «избранных». И разве что в песнях Окуджавы и других произведениях литературы информация о братстве хоть чуть-чуть, да выходила за его пределы.
Но все же во времена советские Арбат почти не выделялся среди множества других московских улиц – тогда вообще мало что выделялось. Анатолий Рыбаков писал о довоенном времени: «Арбат кончал свой день. По мостовой, заасфальтированной в проезжей части, но еще булыжной между трамвайными путями, катили, обгоняя старые пролетки, первые советские автомобили „ГАЗ“ и „АМО“. Трамваи выходили из парка с одним, а то и двумя прицепными вагонами – безнадежная попытка удовлетворить транспортные нужды великого города. А под землей уже прокладывали первую очередь метро, и на Смоленской площади над шахтой торчала деревянная вышка».
А в послевоенное время арбатцев стали расселять по панельным домикам, построенным на месте бывших деревень… И вскоре «братство» распалось. Первое время арбатцы, разумеется, созванивались, изредка даже встречались. Однако новые соседи и новые заботы все сильнее разделяли бывших жителей центра. Как бы до метро добраться (на автобусе сорок минут, а ведь его поди дождись), парного молочка прикупить (не все деревни разломали в одночасье, были поначалу и коровы, и яички только что из-под несушки, и волшебные ягодные сады) да с соседом, запивающим мертвецки, не рассориться (в панельных домиках тоже существовали коммуналки)!
В середине восьмидесятых Арбат стал пешеходным. И понеслась душа в рай. Академик Дмитрий Лихачев писал: «Я… предлагаю превратить пешеходный Арбат в Москве в улицу Культуры». Дальнейшие события, похоже, ориентировались на заветы Дмитрия Сергеевича – разве что понимание того, что такое культура, постоянно изменялось…
В 1987 году на Арбате пытались создать первую безалкогольную зону столицы. Примерно тогда же корреспондент одной из газет посетовал – дескать, не нашел на улице ни одного кафе: все государственные не работают, а кооперативных – нет. В ответ почти в каждом доме открылось какое-нибудь общепитовское заведение. А для любителей «русской экзотики» тут стали продавать матрешек, воинскую одежду и футболки
с изображением Кремля. И Булат Окуджава, один из идеологов «братства», озвучил ему приговор: «Я много раз говорил
о том, что Арбата больше нет. Я сетовал об этом. Действительно, его физическое существование так резко преобразилось, что ничего иного и не скажешь. И это, увы, не только мое мнение. Так думают многие арбатцы. Но, к счастью, Арбат стал символом еще задолго до своей физической гибели. Он продолжает им оставаться и до сих пор. Нельзя уничтожить историю, дух. Они продолжают существовать и подогревают и вдохновляют нас на деятельность. И то, что мы скорбим, засучиваем рукава, пытаясь уберечь свое прошлое, то есть самих себя, – разве это не признак того, что истинный Арбат уже прочно в нашей крови».
Мы же сегодня пройдем по Арбату спокойно и радостно. Постараемся, по крайней мере.
«Вот из архива плясуны»
Здание Российской государственной библиотеки (Воздвиженка, 3) строилось по проекту архитекторов В. Гельфрейха и В. Щуко с 1928 по 1958 годы.
Официально улица Арбат находится между Арбатской и Смоленской площадями. Но это лишь официально. А фактически Арбат берет начало от Кремля, от низенькой и коренастенькой Кутафьей башни: некогда нынешняя улица Воздвиженка тоже носила гордое название Арбат. Ее переименовали лишь в семнадцатом столетии – в Смоленскую (название «Воздвиженка» возникло много позже).
Первая достопримечательность – бывшая Ленинка, а ныне – РГБ (Российская государственная библиотека). Впрочем, многие так по сей день ее по старинке величают Ленинкой. Ни в коей мере, разумеется, не декларируя свои пристрастия к учению и идеям Ленина – просто название давно уж отделилось от фамилии вождя большевиков и выстроило свою собственную биографию.
А до Ленинки на этом месте помещалось здание главного архива Министерства иностранных дел, одного из престижнейших учреждений дореволюционной Москвы.
Этот архив был с историей. Один из его сотрудников, А. Кошелев, писал: «Архив прослыл сборищем блестящей московской молодежи, и звание „архивного юноши“ сделалось весьма почетным».
Все началось при Павле Первом.
Дело в том, что издавна в среде российского дворянства было заведено с рождения отдавать детей в престижные полки. Парень еще под стол пешком ходил, а уже обладал приличным офицерским чином. Нужно это было для того, чтобы, когда придет момент действительно идти на службу, звание было таким высоким, чтобы вместо тягот и лишений получать одни лишь удовольствия.
Император же решил этому делу положить конец. Д. Н. Свербеев вспоминал: «Павел в первые дни своего царствования потребовал списки, и сержантов гвардии, находившихся дома в отпуску, оказалась целая тысяча, если не более. Всем им было велено явиться в Петербург на смотр императору. Можно себе представить великий страх батюшек и матушек, бабушек и мамушек вести грудных или ползающих детей на смотр Павлу. Государю доложили о такой невозможности, и он одним почерком пера всех их выключил, но в гражданскую службу долго еще записывали семилетних…»
Тогда заботливые папеньки и маменьки нашли выход из ситуации: они стали пристраивать своих любимых отпрысков в архив. Служба непыльная и, кроме того, неплохой старт в дипломатической карьере.
Зачисление в архивисты было настоящим праздником, увы, доступным далеко не каждому. Писатель М. А. Дмитриев
с восторгом вспоминал: «Когда мать моя была еще очень молода и жила в Саратове, у ней была там приятельница Анна Петровна Левашова… Узнавши обо мне, т. е. о существовании сына ее молодой подруги, она вздумала оказать ей знак своей любви и памяти и записала меня в 1805 году марта 8-го в московский архив иностранной Коллегии, куда меня приняли архивариусом, чином 12-го класса. Вдруг получена была на почте маленькая шпажка и уведомление об этом от дяди. Все были в восторге и решили тотчас сшить мне мундир… У дяди Сергея Ивановича были пуговицы с гербом Лифляндской губернии; на первый случай сделали мне зеленый мундир с красным казимировым воротником и с этими пуговицами. Потом, когда получили известие о настоящей форме, сшили мне другой, с черным бархатным воротником и посеребренными пуговицами, который мне, однако, не так нравился, как прежний, потому что тот, с красным воротником, был похож на военный. Таким образом, по большим праздникам я ходил к обедне и щеголял дома в мундире. Потом именным указом от 24 февраля 1806 г. я был уволен в отпуск, „до окончания наук“, как было сказано в указе, т. е. до окончания курса учения».
Неудивительно – Дмитриеву в это время было только девять лет.
Архив сразу же изменился до неузнаваемости. Один из его сотрудников, Ф. Вигель, так описывал свое место работы: «По разным возрастам служивших в нем юношей и ребят можно было видеть в нем и университет, и гимназию, и приходское училище; он был вместе и канцелярия, и кунсткамера. Самая ранняя заря жизни встречалась в нем с поздним ее вечером; семидесятилетний надворный советник Иванов сидел близко от одиннадцатилетнего переводчика Васильцовского; манерные, раздушенные Евреиновы и Курбатовы писали вместе с Большаковыми и Щученковыми, которые сморкались в руку. Подле князя Гагарина и графа Мусина-Пушкина, молодых людей, принадлежавших к знатнейшим фамилиям в Москве, вы бы увидели Тархова, в старом фризовом сюртуке, того урода, который наделял нас работой и, во мзду своей снисходительности, выпрашивал у нас старое исподнее платье и камзолы».
Одних только князей Голицыных в те времена было четырнадцать персон.
Большинство «архивных юношей», конечно, не изобретали пороха. Все тот же Вигель сообщал: «По большей части все они, закоренелые москвичи, редко покидают обширное и великолепное гнездо свое и преспокойно тонут или потонули в безвестности. Ни высокими добродетелями они не блистали, ни постыдными пороками не запятнались; если имели некоторые странности, то общие своему времени и месту своего жительства».
А исключения можно было, что называется, пересчитать по пальцам.
Конечно, работы на всех не хватало. Ее приходилось выдумывать. Николай Иванович Тургенев писал: «Вчера был
я в Архиве и занимался перетаскиванием столбцов из шкапов в сундуки. Какой вздор! Чем занимаются в Архиве; и еще Каменский сердится, зачем редко ездят… Там есть переводчики, которые не переводят, а переносят (старые столбцы). (Горчаков возил столбцы на рогожке!) Следовательно, из переводчиков делаются переносчиками или перевозчиками».
А еще время от времени в архиве проводилось что-то наподобие экзаменов. Притом сотрудники были обязаны давать ответы, слово в слово совпадающие с записанным в особом руководстве.
« – Что есть история?
– История есть повествование прошедших достопамятностей.
– Каким образом история различается от летописи?
– Летопись показывает только, в котором году что случилось; история же, повествуя о делах, представляет вместе,
с каким намерением и каким образом они произведены были».
И так далее.
Впрочем, многие сотрудники архива находили здесь свое призвание. Александр Иванович Тургенев (брат уже упомянутого Николая Ивановича), например, писал: «Я опять роюсь в здешнем Архиве и живу с Екатериной II, Фридрихом II, Генрихом Прусским, Потемкиным, Безбородко, а еще какие сокровища! Какая свежая и блистательная история! Без сего Архива невозможно писать истории Екатерины, России, Европы. Сколько в нем истинных, сколько искренних причин и зародышей великих и важных происшествий XVIII столетия. Какая честь для дельцов того времени, и сколько апологий можно бы составить для важнейших дипломатических исторических вопросов!»
Таких специалистов было за уши не оторвать от стеллажей и папок.
Алексей Митрофанов
Еще в начале двадцатого века Арбат был улицей тихой, спокойной, уютной. На Арбате в основном селилось небогатое дворянство (на каждые шестеро жителей – один дворянин, по Москве это было рекордом. Затем тут пустили трамвай, появились витрины модных магазинов. Дух «тихого центра» ушел безвозвратно.
Арбат
Прогулки по старой Москве
Алексей Митрофанов
© Алексей Митрофанов, 2017
ISBN 978-5-4485-8588-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
В честь чего названа эта улица – никто не знает. Есть немало версий происхождения слова «Арбат». Ну, к примеру, от слова «горбат». Но все-таки он прям, а не горбат. Конечно, кривоват немного, но не более, чем остальные улицы Москвы.
Некоторые исследователи считают, что «Арбат» так назван по персидскому слову «рабат», что означает «пристанище», а вернее – «богадельня». Да, действительно, в Москве имели место заимствования из всяческих восточных языков. Однако большинство историков практически уверены, что никаких тут богаделен не существовало.
Была и третья версия: Арбат – от латинского «arbutum», вишня. Да, вполне возможно, что существовали тут вишневые сады. Однако зачем переводить родную вишню на чужой язык, неясно.
А безупречной версии, увы, не существует.
Еще в начале двадцатого века Арбат был улицей тихой, спокойной, уютной. На Арбате в основном селилось небогатое дворянство (на каждые шестеро жителей – один дворянин, по Москве это было рекордом). Затем тут пустили трамвай, появились витрины модных магазинов. Дух «тихого центра» ушел безвозвратно. Борис Зайцев писал: «Образ юности отошедшей, жизни шумной и вольной, ласковой сутолоки, любви, надежд, успехов и меланхолий, веселья и стремления – это ты, Арбат. По тебе снегом первым летят санки, и сквозь белый флер манны сыплющейся огневисто золотеют все витрины, окна разных Эйнемов, Реттере, Филипповых, и восседает «Прага», сладостный магнит. В цветах и в музыке, в бокалах и в сиянье жемчугов, под звон ножей, тарелок веселится шумная Москва, ни о чем не гадающая, нынче живущая, завтра сходящая, полумиллионная, полубогемская, сытая и ветром подбитая, талантливая и распущенная. Гремят и вьюги над Арбатом, яростно стуча по крышам, колотясь в двери облаками снега. Но сквозь мглу и вой метели невозбранно проплывает седенький извозчик, в санях вытертых, на лошаденке дмитровской, звенигородской, как корабль нехитрый, но и верный. К Рождеству елки на Арбатской площади – зеленым лесом. Приезжают дамы в соболях, везут чиновники, тащит рабочий елочку на праздник детям. И, отбушевавши Новый год, в звоне ль шампанского, в гаме ли водочки с селедкой, входят в ледяной январь, бегут, краснея носом, с усами заиндевелыми, обдуваясь паром, – кто на службу, кто торговать, по банкам
и конторам. Кто – и по трактирам. Ночью же остро, хрупко-колюче горит Орион семизвездием, тайно прельщающим над кристаллом снегов».
Улица время от времени чудачила. В революцию 1905 года здесь, на баррикадах, появлялся Константин Бальмонт, а дружинников – арбатских революционеров – возглавлял скульптор Сергей Коненков. После революции 1917 года так называемым «буржуям» запретили пользоваться для очистки снега (обязательной повинности в то время) лошадьми. «Буржуи» с других улиц стали таскать снег собственными, человеческими силами – а арбатцы завели себе верблюда. Перед Великой Отечественной войной здесь на мостовой появились цветные, прозрачные кирпичи. Они подсвечивались снизу, и прохожие, нимало не смущаясь, топали по этой сказочной поверхности – опять же, уникальное тогда в Москве явление. А обитатели здешних домов вообще составляли своеобразное «арбатское братство» – почти «полумасонское», во всяком случае, не афиширующее себя сообщество «избранных». И разве что в песнях Окуджавы и других произведениях литературы информация о братстве хоть чуть-чуть, да выходила за его пределы.
Но все же во времена советские Арбат почти не выделялся среди множества других московских улиц – тогда вообще мало что выделялось. Анатолий Рыбаков писал о довоенном времени: «Арбат кончал свой день. По мостовой, заасфальтированной в проезжей части, но еще булыжной между трамвайными путями, катили, обгоняя старые пролетки, первые советские автомобили „ГАЗ“ и „АМО“. Трамваи выходили из парка с одним, а то и двумя прицепными вагонами – безнадежная попытка удовлетворить транспортные нужды великого города. А под землей уже прокладывали первую очередь метро, и на Смоленской площади над шахтой торчала деревянная вышка».
А в послевоенное время арбатцев стали расселять по панельным домикам, построенным на месте бывших деревень… И вскоре «братство» распалось. Первое время арбатцы, разумеется, созванивались, изредка даже встречались. Однако новые соседи и новые заботы все сильнее разделяли бывших жителей центра. Как бы до метро добраться (на автобусе сорок минут, а ведь его поди дождись), парного молочка прикупить (не все деревни разломали в одночасье, были поначалу и коровы, и яички только что из-под несушки, и волшебные ягодные сады) да с соседом, запивающим мертвецки, не рассориться (в панельных домиках тоже существовали коммуналки)!
В середине восьмидесятых Арбат стал пешеходным. И понеслась душа в рай. Академик Дмитрий Лихачев писал: «Я… предлагаю превратить пешеходный Арбат в Москве в улицу Культуры». Дальнейшие события, похоже, ориентировались на заветы Дмитрия Сергеевича – разве что понимание того, что такое культура, постоянно изменялось…
В 1987 году на Арбате пытались создать первую безалкогольную зону столицы. Примерно тогда же корреспондент одной из газет посетовал – дескать, не нашел на улице ни одного кафе: все государственные не работают, а кооперативных – нет. В ответ почти в каждом доме открылось какое-нибудь общепитовское заведение. А для любителей «русской экзотики» тут стали продавать матрешек, воинскую одежду и футболки
с изображением Кремля. И Булат Окуджава, один из идеологов «братства», озвучил ему приговор: «Я много раз говорил
о том, что Арбата больше нет. Я сетовал об этом. Действительно, его физическое существование так резко преобразилось, что ничего иного и не скажешь. И это, увы, не только мое мнение. Так думают многие арбатцы. Но, к счастью, Арбат стал символом еще задолго до своей физической гибели. Он продолжает им оставаться и до сих пор. Нельзя уничтожить историю, дух. Они продолжают существовать и подогревают и вдохновляют нас на деятельность. И то, что мы скорбим, засучиваем рукава, пытаясь уберечь свое прошлое, то есть самих себя, – разве это не признак того, что истинный Арбат уже прочно в нашей крови».
Мы же сегодня пройдем по Арбату спокойно и радостно. Постараемся, по крайней мере.
«Вот из архива плясуны»
Здание Российской государственной библиотеки (Воздвиженка, 3) строилось по проекту архитекторов В. Гельфрейха и В. Щуко с 1928 по 1958 годы.
Официально улица Арбат находится между Арбатской и Смоленской площадями. Но это лишь официально. А фактически Арбат берет начало от Кремля, от низенькой и коренастенькой Кутафьей башни: некогда нынешняя улица Воздвиженка тоже носила гордое название Арбат. Ее переименовали лишь в семнадцатом столетии – в Смоленскую (название «Воздвиженка» возникло много позже).
Первая достопримечательность – бывшая Ленинка, а ныне – РГБ (Российская государственная библиотека). Впрочем, многие так по сей день ее по старинке величают Ленинкой. Ни в коей мере, разумеется, не декларируя свои пристрастия к учению и идеям Ленина – просто название давно уж отделилось от фамилии вождя большевиков и выстроило свою собственную биографию.
А до Ленинки на этом месте помещалось здание главного архива Министерства иностранных дел, одного из престижнейших учреждений дореволюционной Москвы.
Этот архив был с историей. Один из его сотрудников, А. Кошелев, писал: «Архив прослыл сборищем блестящей московской молодежи, и звание „архивного юноши“ сделалось весьма почетным».
Все началось при Павле Первом.
Дело в том, что издавна в среде российского дворянства было заведено с рождения отдавать детей в престижные полки. Парень еще под стол пешком ходил, а уже обладал приличным офицерским чином. Нужно это было для того, чтобы, когда придет момент действительно идти на службу, звание было таким высоким, чтобы вместо тягот и лишений получать одни лишь удовольствия.
Император же решил этому делу положить конец. Д. Н. Свербеев вспоминал: «Павел в первые дни своего царствования потребовал списки, и сержантов гвардии, находившихся дома в отпуску, оказалась целая тысяча, если не более. Всем им было велено явиться в Петербург на смотр императору. Можно себе представить великий страх батюшек и матушек, бабушек и мамушек вести грудных или ползающих детей на смотр Павлу. Государю доложили о такой невозможности, и он одним почерком пера всех их выключил, но в гражданскую службу долго еще записывали семилетних…»
Тогда заботливые папеньки и маменьки нашли выход из ситуации: они стали пристраивать своих любимых отпрысков в архив. Служба непыльная и, кроме того, неплохой старт в дипломатической карьере.
Зачисление в архивисты было настоящим праздником, увы, доступным далеко не каждому. Писатель М. А. Дмитриев
с восторгом вспоминал: «Когда мать моя была еще очень молода и жила в Саратове, у ней была там приятельница Анна Петровна Левашова… Узнавши обо мне, т. е. о существовании сына ее молодой подруги, она вздумала оказать ей знак своей любви и памяти и записала меня в 1805 году марта 8-го в московский архив иностранной Коллегии, куда меня приняли архивариусом, чином 12-го класса. Вдруг получена была на почте маленькая шпажка и уведомление об этом от дяди. Все были в восторге и решили тотчас сшить мне мундир… У дяди Сергея Ивановича были пуговицы с гербом Лифляндской губернии; на первый случай сделали мне зеленый мундир с красным казимировым воротником и с этими пуговицами. Потом, когда получили известие о настоящей форме, сшили мне другой, с черным бархатным воротником и посеребренными пуговицами, который мне, однако, не так нравился, как прежний, потому что тот, с красным воротником, был похож на военный. Таким образом, по большим праздникам я ходил к обедне и щеголял дома в мундире. Потом именным указом от 24 февраля 1806 г. я был уволен в отпуск, „до окончания наук“, как было сказано в указе, т. е. до окончания курса учения».
Неудивительно – Дмитриеву в это время было только девять лет.
Архив сразу же изменился до неузнаваемости. Один из его сотрудников, Ф. Вигель, так описывал свое место работы: «По разным возрастам служивших в нем юношей и ребят можно было видеть в нем и университет, и гимназию, и приходское училище; он был вместе и канцелярия, и кунсткамера. Самая ранняя заря жизни встречалась в нем с поздним ее вечером; семидесятилетний надворный советник Иванов сидел близко от одиннадцатилетнего переводчика Васильцовского; манерные, раздушенные Евреиновы и Курбатовы писали вместе с Большаковыми и Щученковыми, которые сморкались в руку. Подле князя Гагарина и графа Мусина-Пушкина, молодых людей, принадлежавших к знатнейшим фамилиям в Москве, вы бы увидели Тархова, в старом фризовом сюртуке, того урода, который наделял нас работой и, во мзду своей снисходительности, выпрашивал у нас старое исподнее платье и камзолы».
Одних только князей Голицыных в те времена было четырнадцать персон.
Большинство «архивных юношей», конечно, не изобретали пороха. Все тот же Вигель сообщал: «По большей части все они, закоренелые москвичи, редко покидают обширное и великолепное гнездо свое и преспокойно тонут или потонули в безвестности. Ни высокими добродетелями они не блистали, ни постыдными пороками не запятнались; если имели некоторые странности, то общие своему времени и месту своего жительства».
А исключения можно было, что называется, пересчитать по пальцам.
Конечно, работы на всех не хватало. Ее приходилось выдумывать. Николай Иванович Тургенев писал: «Вчера был
я в Архиве и занимался перетаскиванием столбцов из шкапов в сундуки. Какой вздор! Чем занимаются в Архиве; и еще Каменский сердится, зачем редко ездят… Там есть переводчики, которые не переводят, а переносят (старые столбцы). (Горчаков возил столбцы на рогожке!) Следовательно, из переводчиков делаются переносчиками или перевозчиками».
А еще время от времени в архиве проводилось что-то наподобие экзаменов. Притом сотрудники были обязаны давать ответы, слово в слово совпадающие с записанным в особом руководстве.
« – Что есть история?
– История есть повествование прошедших достопамятностей.
– Каким образом история различается от летописи?
– Летопись показывает только, в котором году что случилось; история же, повествуя о делах, представляет вместе,
с каким намерением и каким образом они произведены были».
И так далее.
Впрочем, многие сотрудники архива находили здесь свое призвание. Александр Иванович Тургенев (брат уже упомянутого Николая Ивановича), например, писал: «Я опять роюсь в здешнем Архиве и живу с Екатериной II, Фридрихом II, Генрихом Прусским, Потемкиным, Безбородко, а еще какие сокровища! Какая свежая и блистательная история! Без сего Архива невозможно писать истории Екатерины, России, Европы. Сколько в нем истинных, сколько искренних причин и зародышей великих и важных происшествий XVIII столетия. Какая честь для дельцов того времени, и сколько апологий можно бы составить для важнейших дипломатических исторических вопросов!»
Таких специалистов было за уши не оторвать от стеллажей и папок.