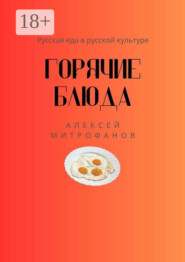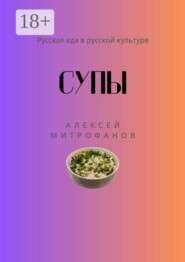По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Бульварное кольцо – 2. Прогулки по старой Москве
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Домик снесли давно – в 1920-е годы. Перед сносом, когда дом стоял заброшенный и жалкий, сюда заглянул с большой корзиной Алексей Бахрушин, основатель и директор Театрального музея. Улов был приличный – письма и переводы хозяина, автографы Островского, Писемского, Аполлона Григорьева и других знаменитостей мира искусств. Пришлось возвращаться – за один раз все было не утащить. Собрание театрального музея значительно пополнилось.
* * *
В том же Мамоновском переулке представляет интерес дом №7. Это – глазная больница. Она расположилась в этом здании в 1826 году. Устав предписывал «безденежно подавать помощь бедным людям, страждущим глазными болезнями, и снабжать их, без всякой платы, потребными лекарствами. Некоторые из таковых, болезнь которых требует особенного присмотра и пользования. могут быть содержимы в самом заведении, пользуются от оного безденежно лечением, квартирою, пищею и приличною для больного одеждою и услугою».
Нельзя сказать, что биография больницы была гладкой. В частности, в 1891 году «Московский листок» сообщал: «17 апреля… во дворе дома Глазной больницы на Тверской улице обрушилась каменная стена и придавила подошедшего к ней в это время дворника того дома, крестьянина Московского уезда, деревни Шадоровой, Петра Голышова, который получил надлом берцовой кости правой ноги; его отвезли в Ново-Екатерининскую больницу».
Поучаствовала та лечебница и в революции 1905 года. Один из ее участников, некто З. Семов вспоминал: «Во время оружейного обстрела пуля, ударившись в решетку, разорвалась, и осколки попали мне в правую щеку. Дружинники подхватили меня и отнесли в медпункт училища.
Когда меня вносили в здание училища, раздался первый оружейный выстрел, выпущенный карателями по уличным баррикадам. У меня были разбиты височная и челюстная кости и разжижен глаз. 14 декабря утром я был перенесен товарищами в глазную больницу (рядом с церковью Благовещения), где 17 декабря доктор Н. Н. Дислер… удалил мне правый глаз.
Полиция распорядилась, чтобы врачи сообщали в полицию о поступлении в больницу больных с ранениями, но по просьбе студентов-медиков Н. Н. Дислер это распоряжение не выполнил…
Поздно вечером 21 декабря ко мне в больницу пришел дружинник Л. Лукьянов и сообщил, что училище окружено войсками… Лукьянов предложил мне немедленно уйти из больницы, так как при обыске в моем шкафике несомненно найдут мою окровавленную одежду, патроны, неисправный «бульдог» и офицерскую шашку.
Выйти из больницы было невозможно: не было одежды, да и поднимать скандал со сторожем было весьма опасно. Ночь я провел без сна, с минуты на минуту ожидая ареста… 17 декабря из окна глазной больницы я видел, как полыхало зарево над районом Пресни, и мне до слез было больно, что лишен возможности принять участие в смертельной схватке пресненских дружин с царскими сатрапами».
Такие вот случались беспокойные пациенты.
Вскоре жизнь наладилась (но, как нам известно, ненадолго). Справочник «Вся Москва» писал: «Московская глазная больница, угол Тверской и Мамоновского пер., 63/7. Состоит под покровительством Государя Императора. Прием больных с 9 – 11 утра ежедневно, кроме праздничных дней, с платой 20 копеек за совет и лекарство, бедным бесплатно. В стационарном отделении 104 кровати, из них 95 (60 мужских и 35 женских) в общих палатах и 9 в отдельных. Плата в общих палатах 6 руб. 60 коп. в месяц за кровать, а в отдельных от 3 до 4 руб. в сутки».
При больнице действовала церковь Христа Спасителя исцелившего слепорожденного.
В 1920-е здесь обнаружили таинственный подвал. Спелеолог Игнатий Стеллецкий, участвовавший в экспедиции, отчитывался: «Спустившись, попадаем в идеально квадратный белокаменный мешок без единого луча света. В своде у задней стены два углубления с отверстиями, обтянутыми гончарными трубами и ведущими в верхнее помещение, занимаемое фельдшерицей. Конструкция каземата-мешка своеобразна: пяты белокаменного свода приходятся под самым уровнем пола, в центре свода торчит железный обломок, быть может, от кольца или крюка. Тесаный камень, тщательно пригнанный друг к другу носит следы штукатурки».
Впрочем, работники больницы знали о существовании этого «каземата-мешка» и, более того, хранили в нем капусту.
Информация же «Всей Москвы» о том, что здание больницы располагалось на углу Мамоновского и Тверской – ни в коей мере не ошибка. Оно действительно было именно там. Но в 1940 году во время реконструкции улицы Горького (как тогда называлась Тверская) дом передвинули на запад и развернули на 90 градусов, чтобы он встал фасадом в переулок.
Путеводитель по Москве 1954 года не без гордости писал: «Эта первая в Москве и одна из первых в России глазная больница была организована в 1825 г. Тогда она располагала всего лишь 20 койками. Теперь больница превратилась в огромное лечебное учреждение, одно из крупнейших не только в СССР, но и в Европе.
Больница оснащена новейшими приборами. Имеются прекрасно оборудованные рентгеновский кабинет, физиотерапевтическое и паталого-гистологическое отделения, клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории. Работает кабинет неотложной глазной помощи, в котором круглые сутки дежурят врачи. В больнице широко применяются тканевая терапия, электромагнитные операции для удаления из глаз инородных тел и другие новейшие достижения медицинской науки. Здесь ведется не только лечебная, но и большая научная и педагогическая работа».
Функционирует больница и сегодня.
* * *
Напротив – не менее интересный дом 10.
Первоначально это был Театр миниатюр, которым заправляла некая Мария Александровна Арцыбушева. Александр Вертинский о ней вспоминал: «Марья Александровна была женщина энергичная и волевая, довольно резкая и не лишенная остроумия. Собрав кой-какую труппу, она держала театр, хотя сборы были плохие; актеров приличных не было, костюмов тоже, а о декорациях и думать нечего. В оркестре сидел меланхоличный пианист Попов и аккомпанировал кому угодно, по слуху. Он не выпускал трубки изо рта и ничему не удивлялся. Кроме того, Марья Александровна еще давала уроки балетного искусства. Ученицами ее были молодые, довольно талантливые балерины, не попавшие в Большой театр… Группа эта называлась «Частный балет».
Занимаясь у Марьи Александровны, молодые балерины выступали также и в ее театре – для практики.
Марья Александровна была грозная женщина, за словом в карман не лезла, и я лично боялся ее как огня».
Именно эта дама впервые предложила Вертинскому попробовать себя на театральной сцене, пообещал в качестве гонорара обед из борща и котлет. Вертинский согласился – таково было его безденежье на тот момент. И в результате полностью определилась его дальнейшая судьба.
В этом же театре прошел первый крупный бенефис артиста. Он вспоминал: «Я написал несколько новых песен, заказал себе новый костюм Пьеро – черный вместо белого, и Москва разукрасилась огромными афишами: «Бенефис Вертинского».
Билеты были распроданы за один час, и, хотя в этот день было три сеанса вместо двух, все же публика могла бы напомнить еще пять таких театров. Начался вечер. Москва буквально задарила меня! Все фойе было уставлено цветами и подарками. Большие настольные лампы с фигурами Пьеро, бронзовые письменные приборы, серебряные лавровые венки, духи, кольца-перстни с опалами и сапфирами, вышитые диванные подушки, гравюры, картины, шелковые пижамы, кашне, серебряные портсигары и пр., и пр. Подарки сдавались в контору театра, а цветы ставили в фойе прямо на пол, так что уже публике даже стоять было негде…
После бенефиса, в первом часу ночи, захватив с собой только те цветы, которые были посажены в ящиках: ландыши, гиацинты, розы, сирень в горшках, – я на трех извозчиках поехал домой, в Грузины. Подарки я оставил в театре, а конторе».
Пока он ехал домой, в стране началась революция.
В 1913 году при этом театре решили – после спектаклей, по субботам – открыть кабаре под названием «Розовый фонарь». Начало – ровно в полночь. Деятель культуры Илья Шнейдер вспоминал об открытии: «Для участия в программе были приглашены футуристы во главе с Маяковским и поэт К. Д. Бальмонт.
Молодые футуристы, падкие на экстравагантные и эксцентрические выходки, предложили разрисовывать в антракте лица желающих из публики, о чем сообщалось в афишах…
Успех «Розового фонаря», во всяком случае, предварительный его успех, превзошел все наши ожидания: дорогие по тем временам пятирублевые входные билеты были мгновенно распроданы. К 12 часам ночи начался съезд к театру, у подъезда которого болтался шелковый розовый фонарь. Желающих попасть в кабаре было вдвое больше, чем могло вместить помещение театра миниатюр, из зрительного зала которого были вынесены стулья партера и вместо них установлены столики с лампочками под розовым абажуром на каждом.
Из-за толкотни, установки приставных столиков и запаздывания «гвоздя» программы – футуристов начало задерживалось.
Публика, расположившаяся за столиками, успела уже выпить и закусить. Жара и шум в зале стояли невообразимые. Какие-то молодые саврасы, глотнувшие водки прямо с мороза, уже требовали, чтобы им разрисовали их рожи. Со многих столиков скандировано стучали о тарелки ножами и вилками, требуя начала программы.
Но футуристов все еще не было. Однако из-за усиливающегося шума и стука пришлось дать занавес и начать программу. Она была составлена из некоторых номеров премьеры театра миниатюр и выступлений поэтов. «Миниатюрные» номера никто не слушал, да и артисты не слыхали ни своего голоса, ни реплик от все еще усиливающегося шума, в котором все яснее слышались крики:
– Футуристов! Футуристов!»
Пришлось пойти на полумеру: «Чтобы успокоить зал, решили выпустить на сцену другую знаменитость – поэта Бальмонта. Но он уже успел не раз побывать около буфетной стойки и еле вышел на сцену. Бальмонт и всегда-то читал свои стихи довольно тихим голосом, а на этот раз создалось впечатление, что он беззвучно открывает рот. Это еще более раззадорило подвыпившую публику, которая выла, орала и стучала все громче.
Бальмонт, разозлившись, повернулся и ушел. Зал взревел… Дали занавес, затем выпустили какую-то певицу в нарядном белом туалете. На какое-то время наступила относительная тишина.
Вдруг, когда певица добросовестно выводила свои рулады, на ярко освещенную сцену вступил Маяковский и стал пересекать ее крупными и медленными шагами, выбрасывая вперед коленки и дразня всех своей необычной черно-оранжевой блузой.
Зал взорвался… Маяковский шагал. Его высокая фигура почти уже вдвинулась в кулису, когда из зала кто-то взвизгнул:
– Рыжего!
Зал заулюлюкал и подхватил выкрик. Маяковский остановился, повернулся лицом к столикам с розовыми лампочками и галдевшими гостями, затем спокойно прогромыхал тяжелыми башмаками к рампе. Все утихло».
Но Владимир Владимирович имел, что называется, фигу в кармане. Он начал читать не что-нибудь, а свое «первое социально-обличительное» стихотворение «Нате!»:
Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я – бесценных слов мот и транжир.
Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
Где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.
Зрители заплатили немалые деньги – и получили такую вот отповедь. Можно представить себе, что за этим последовало: «Маяковский закончил. Публика взвыла. Потом в зал плюхнулось, как огромная жаба, только одно-единственное слово, брошенное Маяковским прямо в раскрасневшиеся, пьяные и злые лица, и тут рухнули с потолка все балки…
По крайней мере, так показалось в первый момент, потому что все в зале взвилось, полетело, зазвенело, завизжало…
Маяковский так же спокойно повернулся и теми же широкими и медленными шагами удалился.
* * *
В том же Мамоновском переулке представляет интерес дом №7. Это – глазная больница. Она расположилась в этом здании в 1826 году. Устав предписывал «безденежно подавать помощь бедным людям, страждущим глазными болезнями, и снабжать их, без всякой платы, потребными лекарствами. Некоторые из таковых, болезнь которых требует особенного присмотра и пользования. могут быть содержимы в самом заведении, пользуются от оного безденежно лечением, квартирою, пищею и приличною для больного одеждою и услугою».
Нельзя сказать, что биография больницы была гладкой. В частности, в 1891 году «Московский листок» сообщал: «17 апреля… во дворе дома Глазной больницы на Тверской улице обрушилась каменная стена и придавила подошедшего к ней в это время дворника того дома, крестьянина Московского уезда, деревни Шадоровой, Петра Голышова, который получил надлом берцовой кости правой ноги; его отвезли в Ново-Екатерининскую больницу».
Поучаствовала та лечебница и в революции 1905 года. Один из ее участников, некто З. Семов вспоминал: «Во время оружейного обстрела пуля, ударившись в решетку, разорвалась, и осколки попали мне в правую щеку. Дружинники подхватили меня и отнесли в медпункт училища.
Когда меня вносили в здание училища, раздался первый оружейный выстрел, выпущенный карателями по уличным баррикадам. У меня были разбиты височная и челюстная кости и разжижен глаз. 14 декабря утром я был перенесен товарищами в глазную больницу (рядом с церковью Благовещения), где 17 декабря доктор Н. Н. Дислер… удалил мне правый глаз.
Полиция распорядилась, чтобы врачи сообщали в полицию о поступлении в больницу больных с ранениями, но по просьбе студентов-медиков Н. Н. Дислер это распоряжение не выполнил…
Поздно вечером 21 декабря ко мне в больницу пришел дружинник Л. Лукьянов и сообщил, что училище окружено войсками… Лукьянов предложил мне немедленно уйти из больницы, так как при обыске в моем шкафике несомненно найдут мою окровавленную одежду, патроны, неисправный «бульдог» и офицерскую шашку.
Выйти из больницы было невозможно: не было одежды, да и поднимать скандал со сторожем было весьма опасно. Ночь я провел без сна, с минуты на минуту ожидая ареста… 17 декабря из окна глазной больницы я видел, как полыхало зарево над районом Пресни, и мне до слез было больно, что лишен возможности принять участие в смертельной схватке пресненских дружин с царскими сатрапами».
Такие вот случались беспокойные пациенты.
Вскоре жизнь наладилась (но, как нам известно, ненадолго). Справочник «Вся Москва» писал: «Московская глазная больница, угол Тверской и Мамоновского пер., 63/7. Состоит под покровительством Государя Императора. Прием больных с 9 – 11 утра ежедневно, кроме праздничных дней, с платой 20 копеек за совет и лекарство, бедным бесплатно. В стационарном отделении 104 кровати, из них 95 (60 мужских и 35 женских) в общих палатах и 9 в отдельных. Плата в общих палатах 6 руб. 60 коп. в месяц за кровать, а в отдельных от 3 до 4 руб. в сутки».
При больнице действовала церковь Христа Спасителя исцелившего слепорожденного.
В 1920-е здесь обнаружили таинственный подвал. Спелеолог Игнатий Стеллецкий, участвовавший в экспедиции, отчитывался: «Спустившись, попадаем в идеально квадратный белокаменный мешок без единого луча света. В своде у задней стены два углубления с отверстиями, обтянутыми гончарными трубами и ведущими в верхнее помещение, занимаемое фельдшерицей. Конструкция каземата-мешка своеобразна: пяты белокаменного свода приходятся под самым уровнем пола, в центре свода торчит железный обломок, быть может, от кольца или крюка. Тесаный камень, тщательно пригнанный друг к другу носит следы штукатурки».
Впрочем, работники больницы знали о существовании этого «каземата-мешка» и, более того, хранили в нем капусту.
Информация же «Всей Москвы» о том, что здание больницы располагалось на углу Мамоновского и Тверской – ни в коей мере не ошибка. Оно действительно было именно там. Но в 1940 году во время реконструкции улицы Горького (как тогда называлась Тверская) дом передвинули на запад и развернули на 90 градусов, чтобы он встал фасадом в переулок.
Путеводитель по Москве 1954 года не без гордости писал: «Эта первая в Москве и одна из первых в России глазная больница была организована в 1825 г. Тогда она располагала всего лишь 20 койками. Теперь больница превратилась в огромное лечебное учреждение, одно из крупнейших не только в СССР, но и в Европе.
Больница оснащена новейшими приборами. Имеются прекрасно оборудованные рентгеновский кабинет, физиотерапевтическое и паталого-гистологическое отделения, клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории. Работает кабинет неотложной глазной помощи, в котором круглые сутки дежурят врачи. В больнице широко применяются тканевая терапия, электромагнитные операции для удаления из глаз инородных тел и другие новейшие достижения медицинской науки. Здесь ведется не только лечебная, но и большая научная и педагогическая работа».
Функционирует больница и сегодня.
* * *
Напротив – не менее интересный дом 10.
Первоначально это был Театр миниатюр, которым заправляла некая Мария Александровна Арцыбушева. Александр Вертинский о ней вспоминал: «Марья Александровна была женщина энергичная и волевая, довольно резкая и не лишенная остроумия. Собрав кой-какую труппу, она держала театр, хотя сборы были плохие; актеров приличных не было, костюмов тоже, а о декорациях и думать нечего. В оркестре сидел меланхоличный пианист Попов и аккомпанировал кому угодно, по слуху. Он не выпускал трубки изо рта и ничему не удивлялся. Кроме того, Марья Александровна еще давала уроки балетного искусства. Ученицами ее были молодые, довольно талантливые балерины, не попавшие в Большой театр… Группа эта называлась «Частный балет».
Занимаясь у Марьи Александровны, молодые балерины выступали также и в ее театре – для практики.
Марья Александровна была грозная женщина, за словом в карман не лезла, и я лично боялся ее как огня».
Именно эта дама впервые предложила Вертинскому попробовать себя на театральной сцене, пообещал в качестве гонорара обед из борща и котлет. Вертинский согласился – таково было его безденежье на тот момент. И в результате полностью определилась его дальнейшая судьба.
В этом же театре прошел первый крупный бенефис артиста. Он вспоминал: «Я написал несколько новых песен, заказал себе новый костюм Пьеро – черный вместо белого, и Москва разукрасилась огромными афишами: «Бенефис Вертинского».
Билеты были распроданы за один час, и, хотя в этот день было три сеанса вместо двух, все же публика могла бы напомнить еще пять таких театров. Начался вечер. Москва буквально задарила меня! Все фойе было уставлено цветами и подарками. Большие настольные лампы с фигурами Пьеро, бронзовые письменные приборы, серебряные лавровые венки, духи, кольца-перстни с опалами и сапфирами, вышитые диванные подушки, гравюры, картины, шелковые пижамы, кашне, серебряные портсигары и пр., и пр. Подарки сдавались в контору театра, а цветы ставили в фойе прямо на пол, так что уже публике даже стоять было негде…
После бенефиса, в первом часу ночи, захватив с собой только те цветы, которые были посажены в ящиках: ландыши, гиацинты, розы, сирень в горшках, – я на трех извозчиках поехал домой, в Грузины. Подарки я оставил в театре, а конторе».
Пока он ехал домой, в стране началась революция.
В 1913 году при этом театре решили – после спектаклей, по субботам – открыть кабаре под названием «Розовый фонарь». Начало – ровно в полночь. Деятель культуры Илья Шнейдер вспоминал об открытии: «Для участия в программе были приглашены футуристы во главе с Маяковским и поэт К. Д. Бальмонт.
Молодые футуристы, падкие на экстравагантные и эксцентрические выходки, предложили разрисовывать в антракте лица желающих из публики, о чем сообщалось в афишах…
Успех «Розового фонаря», во всяком случае, предварительный его успех, превзошел все наши ожидания: дорогие по тем временам пятирублевые входные билеты были мгновенно распроданы. К 12 часам ночи начался съезд к театру, у подъезда которого болтался шелковый розовый фонарь. Желающих попасть в кабаре было вдвое больше, чем могло вместить помещение театра миниатюр, из зрительного зала которого были вынесены стулья партера и вместо них установлены столики с лампочками под розовым абажуром на каждом.
Из-за толкотни, установки приставных столиков и запаздывания «гвоздя» программы – футуристов начало задерживалось.
Публика, расположившаяся за столиками, успела уже выпить и закусить. Жара и шум в зале стояли невообразимые. Какие-то молодые саврасы, глотнувшие водки прямо с мороза, уже требовали, чтобы им разрисовали их рожи. Со многих столиков скандировано стучали о тарелки ножами и вилками, требуя начала программы.
Но футуристов все еще не было. Однако из-за усиливающегося шума и стука пришлось дать занавес и начать программу. Она была составлена из некоторых номеров премьеры театра миниатюр и выступлений поэтов. «Миниатюрные» номера никто не слушал, да и артисты не слыхали ни своего голоса, ни реплик от все еще усиливающегося шума, в котором все яснее слышались крики:
– Футуристов! Футуристов!»
Пришлось пойти на полумеру: «Чтобы успокоить зал, решили выпустить на сцену другую знаменитость – поэта Бальмонта. Но он уже успел не раз побывать около буфетной стойки и еле вышел на сцену. Бальмонт и всегда-то читал свои стихи довольно тихим голосом, а на этот раз создалось впечатление, что он беззвучно открывает рот. Это еще более раззадорило подвыпившую публику, которая выла, орала и стучала все громче.
Бальмонт, разозлившись, повернулся и ушел. Зал взревел… Дали занавес, затем выпустили какую-то певицу в нарядном белом туалете. На какое-то время наступила относительная тишина.
Вдруг, когда певица добросовестно выводила свои рулады, на ярко освещенную сцену вступил Маяковский и стал пересекать ее крупными и медленными шагами, выбрасывая вперед коленки и дразня всех своей необычной черно-оранжевой блузой.
Зал взорвался… Маяковский шагал. Его высокая фигура почти уже вдвинулась в кулису, когда из зала кто-то взвизгнул:
– Рыжего!
Зал заулюлюкал и подхватил выкрик. Маяковский остановился, повернулся лицом к столикам с розовыми лампочками и галдевшими гостями, затем спокойно прогромыхал тяжелыми башмаками к рампе. Все утихло».
Но Владимир Владимирович имел, что называется, фигу в кармане. Он начал читать не что-нибудь, а свое «первое социально-обличительное» стихотворение «Нате!»:
Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я – бесценных слов мот и транжир.
Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
Где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.
Зрители заплатили немалые деньги – и получили такую вот отповедь. Можно представить себе, что за этим последовало: «Маяковский закончил. Публика взвыла. Потом в зал плюхнулось, как огромная жаба, только одно-единственное слово, брошенное Маяковским прямо в раскрасневшиеся, пьяные и злые лица, и тут рухнули с потолка все балки…
По крайней мере, так показалось в первый момент, потому что все в зале взвилось, полетело, зазвенело, завизжало…
Маяковский так же спокойно повернулся и теми же широкими и медленными шагами удалился.