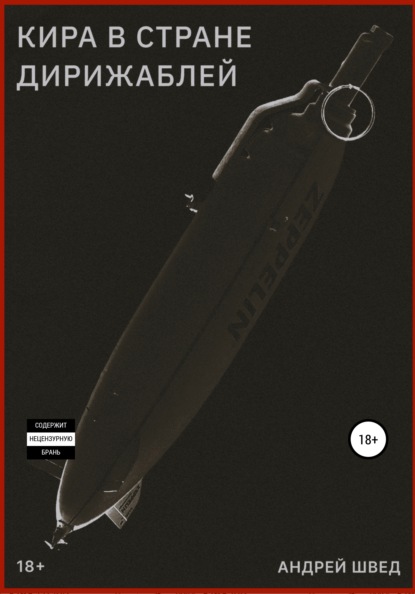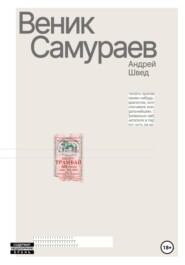По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кира в стране дирижаблей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Только за такое «волшебство» платят несколько сотен миллионов, чтобы химическими реагентами разогнать облака… – скептически пробурчал Однабоков. Но его голос потонул в капитанском экстазе.
– Что-что вы сказали? – Смертин не слышал никого кроме себя. – Так вот, каждый год в день Парада мы чтим память наших предков. Ведь только сегодня можно это сделать! Всегда с утра в этот день смотрим телевизор! Такова традиция! Потом каждый должен повязать георгиевскую ленточку: я – на машину, жена – на сумку, дочка – в косички, собака – на шею, а сын на… О, это моя гордость! Я кричу ему с кухни: «Рядовой Иван Смертин!» Он уже тут как тут: подбежит и отдаст честь. С детства научен, что есть такая профессия – Родину защищать. И слава богу! Мы с женой наряжаем его в гимнастерку, надеваем пилотку. Растет будущий юнкер. В руках – деревянная винтовка!
– Почему вы сейчас не с семьей? – растерялась Кира.
– Ну так им сюда не положено, там они, внизу, – он махнул рукой в толпу. – Так вот, с утра сегодня, значит, едем… На улице нам попадаются другие счастливые семьи, и все детки тоже в военной форме! Это правильно! Вот мой сынишка, хоть и маленький, а знает, что к такому с детства надо приучать. А если завтра война? Восьмилетние детишки не идут – маршируют под руку со своими мамками, рядом едут танки-коляски: «Можем повторить»! Красота! И слава богу! У меня аж слезы наворачиваются от умиления. А про себя думаю: «Жалко, что дочурка у меня, Верочка…» Так бы двух солдат Родине подарил.
Кира уже начала уставать от потока слов капитана, который, как из брандспойта, поливал ее своей личной жизнью. Она покосилась на Влада. Даже веселый и разговорчивый в начале дня брат, теперь хмуро переговаривался с Однабоковым. «Надо девочку спасать, а то он ее совсем заговорит…» – Кире показалось, что губы писателя произнесли именно это.
– …С утра мы были на кладбище, там могилы павших воинов и, конечно, давка из желающих сказать: «Никто не забыт, ничто не забыто». Прямо на входе, возле черной ограды поставили ларьки с гвоздиками. Всего 50 рублей за штуку! Столько стоит память! И это хорошо, что ларьки так близко к кладбищу! Все для людей! Сервис! И слава богу!
– Для тех, кто никого и ничто не забыл, но купить две гвоздики, все-таки забыл, – встрял сзади Влад, но его слова остались без внимания.
Он и Однабоков сочувственно смотрели в сторону Киры, пытаясь подать ей знак, что разговор лучше закончить, пока капитана совсем не унесло в открытое небо. Они почти что выплясывали парный танец, состоящий из мимических жестов, подмигиваний и странных поз. Однако сами они уже не знали, как вклиниться в разговор и прервать Смертина. Если в начале парада Однабоков чуть ли не открыто соперничал с капитаном, то теперь словесная стена отгородила его от внешнего мира и делать хоть что-либо стало просто бессмысленно! Это эйфория! Экстаз! Патриотическая овуляция!
– …И пускай кто-то делает бизнес, а в двух метрах левее похоронены солдаты в братских могилах. А мой юнкерочек чешет прямо по газону (по пересеченной местности, так сказать) – разведчиком будет! Цветы и венки свалены на могилах, практически в кучи. Но ведь больше – лучше! Жаль, теща не видит всей этой красоты, – он гоготнул. – Цветов, что у нее на грядках! Ну она пошла в Бессмертный полк по городу, тоже дело хорошее! Это ведь наши скрепы! А мы вот сюда, на парад примчались! А вечерочком можно и на дачу, выходной же, в конце концов…! И слава богу!
– Капитан, – голос Киры показался ей самой холоднее железа. – А где же ваша георгиевская ленточка теперь?
Смертин в смятении обшарил мундир, на котором побрякивали бесполезные медальки за доблестную службу. Не найдя ленточки, он моментально успокоился.
– Потерялась видать… ну ничего куплю новую.
Ухватившись за паузу, Однабоков и Влад выдернули Киру из лап капитана: «Просим прощения, нам с мисс срочно нужно обсудить один неотложный вопрос…»
Кира устало повалилась на жесткое сиденье спиной к Смертину, дирижаблям, императору и параду. Смотреть ей уже не хотелось.
17
Темный больничный коридор с запахом нашатыря и просроченных таблеток, впитавшимся в белый, но грязный кафель, разнес гулкие шаги, пытающиеся казаться как можно тише. Этот монотонный и медленный гул, отдаваемый вибрацией эха, отражающегося от стен, казался пульсом этого мертвого места, но пульсом слабым и умирающим. Пульс – толчки крови – разносился по длинной варикозной набухшей вене с синим отливом. Пульс дошел до изгиба вены и свернул за угол. Но поскольку никто не видел его и не слышал, он как будто переставал существовать для всех кроме самого себя. Будто его и не было здесь.
Пульс понял это. И поэтому, утратив прежнюю осторожность отделился от стены и приобрел блеклые очертания человеческой тени. В лунном свете проступили черные руки и ноги. Тень скользнул к палате, как смерть, пришедшая за больным. Но смерть знает эту больницу, для одних она избавление от страданий, для других нежеланная гостья, но как бы там ни было, она завсегдатая, она снова и снова приходит сюда. А тень – нет.
Тень осторожничает, как волк, который старается не угодить в капкан медленно, бредет по лесу. Тень нервничает. Однако несмотря на это, тень идет под руку со смертью.
Смерти не нравится ее спутник, но он тут один и другого нет. А тень несет смерть в себе – ею набиты карманы, она прячется за пазухой, под кофтой, мягко облегает кожу, расползаясь по ей холодными пупырышками. И смерть, понимая, что выбора у ее нет, становится с тенью чем-то однородным, единым. Тень – это и есть смерть, даже если он просто человек.
У смерти должен быть носитель, не хозяин, но передатчик и вестник. И тень очень подходит для этой роли. Несмотря на то, что он молод и не имеет опыта, тень справится, он это знает, и смерть это знает тоже.
Через большие окна в холл проступает свет полной луны, и теперь уже не остается сомнений, что тень – это юноша, даже почти мальчик: затравленный, загнанный, испуганный, с животными повадками, оборотень, но все-таки еще человек.
Крадучись, он подходит к белой двери палаты. Бледными, худыми, длинными пальцами, как паук, он прощупывает дверь в поисках заветной ручки. Наконец, острые ногти с неприятным скрежетом клацают по металлу. Человек-тень отдергивает руку в страхе, но тут же возвращает ее на место. Он знает, что здесь он один. Он только привел с собой смерть, и она шелестит в складках его одежд.
Но он не убийца! Он никогда до этого не убивал! Даже насекомых, которые его всегда до жути пугали… И в детском пансионате, когда его сверстники ловили жуков и отрывали им крылья или жгли лупой горки муравейников, он отворачивался с отвращением и ненавистью. Он не садист! Он ударил своего приятеля-однокашника, который поймав комара, отрывал одну за другой тонкие лапки. Комар был гораздо ближе сущности человека-тени, и может поэтому люди ему нравились куда меньше. Если рассуждать так, то убить человека становилось не таким сложным и ненормальным делом.
Но он не преступит черту! Ведь не преступит? Он не преступник? Во всяком случае не сейчас… Это уже произошло один раз давно или происходило все время, но постепенно. Опять же, в детстве, это было между ним и сверстниками, когда те обсуждали игры или телевизионные передачи, которые его не интересовали, но ему приходилось молчать, когда он в разговоре о кино путал слова «триллер» и «трейлер», и все смеялись над ним, а он решал, что лучше бы уж ничего не говорил, чем вот так позорился, и еще когда все они шли играть в футбол и вспоминали имена любимых игроков, а он не знал никого, да и играл плохо, ведь и это его не интересовало, но он был вынужден притворяться, чтобы ребята не поняли, что он – другой!
Так раз он другой, почему же сейчас он не сможет сделать это? Пусть даже из-за своих комплексов, из-за слабости – он это не отрицает… Он умен и умеет анализировать свои поступки и мотивы. И как раз по тому, что тень умен, он знает: в его поступках есть не только слабость, не только воля высшей силы, есть здесь и личный мотив.
А может им вообще движет глубокое, возвышенное чувство любви, рождающее в нем под нефом ребер ревность. Дело ли в ревности? Нет… не знаю… хватит думать… Тень открыл дверь.
Внутри была только одна кровать и куча техники вокруг. Техника протянула свои щупальца с присосками на концах к рукам и ногам девушки, лежащей на койке. Девушка была слабой. Она недавно перенесла очередную операцию.
Девушку звали Мари. Она спала и ни о чем не подозревала.
«Ну здравствуй» – хотел сказать тень, но не решился. Он застенчив, но Мари его и не услышала бы, так что оставим эту тривиальную надрывность театральным подмосткам. В этой одиночной реабилитационной палате никакой драмы не случится. Ведь она, Мари… она все равно уже наполовину мертва. И умерла бы и без его помощи. Он лишь…
Решительным движением тень повернул переключатель на аппаратуре. «Мари…» – только теперь имя не имело никакого значения.
Экранчик с бегущей линией пульса погас, как затерявшийся в страшном лесу светлячок, обернувшийся похоронным прямоугольником черной пустоты. Все звуки тоже исчезли. Теперь все.
– Прощай, Мари… – прохрипел тень.
Мари ни капли не изменилась, жизнь просто затихла в ней, как одинокий звук варгана в опустевшей комнате.
Тень вышел из палаты, собираясь уходить, но передумал. Нужно было сделать еще одно дело… В череде одинаковых дверей, он нашел ту, у которой уже стоял какое-то время назад с придыханием и волнением, чувствуя скорую встречу. Тогда казалось, что вместо легких у него разводы майских облаков. Теперь вместо облаков только седая пыль.
Эрик? Да, кажется его зовут так. Но это не важно. Для смерти имен не существует. Эрик спит ровно и безмятежно. Чистый и опрятный, почти розовый, как ребенок. Так даже и не скажешь, что он провел в больнице больше месяца. Выглядит он свежим и радостным. Эрику снится сон, о той жизни, которая ждет его за пределами больничной палаты. Он думает, что жизнь ждет его. И только тень знает, что в его снах нет никакого смысла. Сны Эрика – не более чем опиоидная блажь в центре макового поля…
Тень смотрит прямо в закрытые глаза с длинными ресницами. Красивое лицо. Именно такие мальчики в школе всегда были лучшими, лидерами и отличниками, они вели за собой. Они мечтали стать президентами и летчиками. Вечно правильные, вечно правые – именно таких тень не любил больше всего. Потому что такие, как Эрик, ненавидели его за слабость, за то, что он другой, за то, что он не убивает жуков и не может поймать мяч, стоя на воротах. Такие прилизанные мальчики называли его, тень неудачником и занудой. Они были выше и сильнее, никогда не болели и всегда ходили на физкультуру. Зимой – лыжи, летом – футбол.
Тень стояла так несколько минут, глядя, как юношеская грудь Эрика вздымается и опускается в последних минутах дыхания. Пусть он тоже умрет во сне. Тень ненавидела его, но он заслужил легкой смерти, потому что ничего плохого лично ему не сделал. Просто ему нужно умереть. Вот и все. Он ни в чем не виноват. Просто он должен остаться в прошлом, так же как в прошлом осталась Мари.
Тень взял подушку с соседней кровати и медленно опустил на спящее лицо – будто закрыл его фатой, а затем плотно прижал. Руки, как поршни, выпрямились, вдавливая подушку так, чтобы она перекрыла воздух.
Ему незачем жить, он все равно навсегда останется инвалидом. Он – часть своего прошлого, но тень не может позволить ему быть прошлым и в чужой жизни тоже. Да и зачем нужно такое искалеченное воспоминание?
Эрик проснулся в резкой черноте, его тело заметалось, задергалось в конвульсиях, пытаясь сопротивляться, но жесткие руки держали крепко. Эрик вырывался из мягкой, обволакивающей, удушающей темноты, зубами он прогрызал себе путь к кислороду, пока ни разорвал ткань. Но пух набился в глотку и в ноздри. Как вата, перья заполнили собой весь рот, намокая от судорожно текущих слюней. Пух щекотал и колол горло.
Тень слышал хриплые, сдавленные крики.
Эрик так и не вырвался из темноты до самой смерти. Последние секунды своей жизни он пытался просмотреть сквозь черную пелену, но не сумел – не узнал, что его убило. Он пытался кричать, но пух поглощал все звуки. Он был в вакууме, он был один.
Теперь тень смотрел просто на тело. Не человеческое, а просто тело, закрытое сверху почти прогрызенной подушкой. Сразу стало пустынно. Тени хотелось уйти, оставив все как есть, только бы не поднимать подушку с оплывшего лица, но он не мог не закончить начатое. Нужно избавиться от улик.
Тень приподнял выпотрошенную ткань, из которой валился пух и перья. Под подушкой было остывающее лицо, измазанное соплями, слезами и слюнями. Они быстро высыхали, оставляя неровные ручейки разводов на щеках и подбородке.
Пух разлетался по палате. Его нужно собрать. Спокойными руками тень поднимал одно перышко за другим, складывая из в разодранную подушку, которую держал на подобие мешка. Затем нужно было собрать тот пух, который прилип к мертвому лицу. Он касался пальцами безжизненной кожи, дергая по одному перышку. Кропотливая и долгая работа. То, что нужно, чтобы успокоиться. Разобравшись и с этим, он начал доставать перья изо рта, всовывая кисть в немую глотку. Рука с каждым разом погружалась все глубже. Отстраненно и монотонно тень извлекал бесформенные комки слипшихся и полупережеванных перьев.
Глухая ночь не заметила, что стало на два трупа больше.
Случайные прохожие видели, как от мрачного здания больницы отъезжает красный кабриолет, но никто не обратил на это внимания.
18
«А я говорил ей. Я говорил ей, что если хоть еще раз она приедет сюда, то пожалеет об этом. Что она сказала тогда? Тогда, в тот раз, уезжая со своим новым хахалем за границу… «Прости»? «Сердцу не прикажешь»? «Спасибо за понимание»? А если я устал понимать. Если я, черт возьми, устал поступать правильно! Ты, Мари, моя бывшая, моя старая любовь. Ты предала меня! Ты уехала с ним, и что теперь? За что ты так со мной? Впрочем, у этого нет никаких «за что», у этого нет объективных причин, кроме той, что ты – эгоистичная тварь! Ведь я просто хочу, чтобы меня любили! Но не я отомстил тебе! Само небо убило тебя, а я просто доделал его работу. Небо! Слышишь меня, Мари? А? Теперь ты ничего не слышишь… знаешь, если бы я веровал, то сказал, что это Бог наказал тебя, что справедливость есть! Но справедливости нет, как нет и Бога, а если он все же есть, то он просто устал от нас. Поэтому приходится все брать в свои руки… Теперь-то я научился. Все, что было во мне – наитупейшая безысходность. А ведь так хотелось, чтобы хоть кто-то был готов ради меня делать то, на что я готов ради других, чтобы не я один страдал… Почему именно мне досталось нести всю боль человечества? Иногда мне кажется, что я один способен вообще хоть что-то чувствовать, отсюда вся эта ненависть… а люди только и способны – развлекаться, дрочить и спариваться… за что их любить? И в их унылой мещанской жизни, если и происходит хоть нечто уникальное, единственная их реакция – сфотографировать это. И то, фотографии будут выкинуты или потеряются во время очередного переезда… Люди слишком просты, слишком поверхностны. Ты, Мари, была именно такой. Я – твоя игрушка, которая тебе надоела. Люди умеют только потреблять, пользоваться друг другом. Ты не представляешь, что я чувствовал? И все что я мог – это превращать свои страдания в слова, которые никогда не будут произнесены. И поэтому я плакал. Слезы – это всегда жалость к себе. Но я атрофировал слезные железы. Убить в себе жалость. «Спасибо за понимание»! На хрен мне твое понимание? А если я не хочу вообще больше ничего понимать? Я просто пытаюсь понять, ЧТО СО МНОЙ НЕ ТАК? Дело не в самооценке, которая, кстати, у меня страдает из-за кучи комплексов и внутренних сомнений, которые дерут меня изнутри. Но объективно: я не урод, я достаточно умен, да не так, как люди моего круга, но умнее многих, я богат, и пусть это богатство отца, я – наследник, я из знатного рода, но это не играет никакой роли, по сравнению с моими личными качествами. В тот раз, когда тебе нужно было оплатить лечение, помнишь, кто это сделал? А знали мы друг друга меньше месяца, Мари… Так скажи мне, неужели меня не за что любить? Разве любовь не дар, которым, ты так разбрасываешься… А ты только думала о собственном благе. Твой покой и твой комфорт для тебя важнее всего, важнее чувств других. Что ж, я подарил тебе покой. Ты умерла во сне, хотя этого не заслуживала. Я бы хотел, чтобы ты мучилась перед смертью, я хотел, чтобы ты увидела мои глаза в последний раз и знала, что это я убил тебя. Ведь я старался ради тебя, старался строить наши отношения. И говорил, что ты – в последний раз, что больше не полюблю и не доверюсь, что любить – это труд. От моей любви не вырастают крылья. Моя любовь – гвозди, гиря, наковальня. Она душит меня. Я старался, но у меня опять не получилось… «Спасибо за понимание»!!! Меня воротит от этих культурных слов и прилизанных формулировок. От этой чертовой толерантности! Как бы кого ни обидеть! Новая этика, новая искренность… Все вокруг новое, только я и мир остались старые, и я не знаю как в нем жить! На самом деле мне просто в очередной раз не повезло. Так уж сложилось, что это случается слишком часто. Может вообще на настоящую любовь способны не все? Что ж ладно… мне было не так больно… во всяком случае не больнее, чем после расставания с первой девушкой. Похоже, что я научился жить с этим чувством потери. Потерпи, говорю я себе. Но с каждым разом любить все труднее. Каждая новая девушка отнимает часть меня. И в конце не останется ничего. Я взрослею и те, с кем я знакомлюсь, тоже становятся старше. Они проживали свои жизни без меня, и потому у них формируются свои привычки и взгляды, которые надо каждый раз учиться принимать. Но у меня, чем дальше, тем меньше сил. Почему никто не думает о том, что у меня тоже есть свои взгляды! С каждым годом они все больше костенеют, и мне все труднее подстраиваться под других людей! Поэтому я старался держаться за каждый шанс! Но ты все убила! Все кончено, маркиза де Феррер! Кто-нибудь посмотрите на меня! Ну ведь я не злодей! Я тоже заслуживаю счастья! Я хочу быть счастливым! Но только где его искать? Со сверстниками мне скучно, взрослые вызывают у меня омерзение, а в детях я разочаровался заранее, ведь рано или поздно они вырастут и станут такими же… И зачем их только родили? Зачем родили меня? Но снова говорит во мне жалость к себе. Я хожу кругами… Жалость! Я смотрю на них, на людей. Их жалко. И я ненавижу себя за жалость к ним. Ведь и этого они не заслуживают – никакой жалости: ни к себе, ни к другим. Их шапки с помпонами, безмятежно сложенные руки, дешевые сумки из кожзаменителя, магнитики на холодильниках… – эти люди всем видом вызывают к себе жалость. А я ее в себе убил. Слабость и бедность должны наказываться. А ты, Кира, не думала, что я такой? Верно? Жалость! Почему мне их жалко? Но я превратил свою грусть в злость, ибо лучше быть злым, чем слабым. Жалостью наполнена вся страна… О! что это за страна! Грязная, неряшливая, похожая на раскоряченные ноги кухарки, на водородную бомбу, да хоть на эти чертовы дирижабли, мать их! Что же это… что же это… что же это делается… Страна – где все вот так! Жирная страна, толстая страна, огромная страна! Как тетка! Как свинья! Тебя пучит, распирает живот! Тошнит! Ты выплевываешь своих детей за границу! Ты – лопух! Репень! Мать и мачеха! Мать-перемать! Как же так… что же это делается… Как любить мне тебя, объясни? Ты – большая страна, ты – толстая! Рвется соком проржавевшая сныть под колесами бронепоездов! Отрыгнет ветер в воздух листву, занесет она поезд и шпалы, будто не было тебя вовсе тут, будто ты – просто шлюха да шмара! На работу в районе шести ты уходишь, уложив спать в кровати. И спящему шепчешь: «Прости, прости меня, глупую матерь…» Мальчик глушит водку отца, когда тот тебя за сосцы схватит, но вскоре отстать от тебя решит и остыть. Ломки холода… Вымерший Омск… Черной кровью струятся цистерны… Тает купол у церкви, и воск оставляет кирпичные стены… За кого же пойдет война, если ты в поруганном платьице сидишь, поджав ноги, одна, и тихо в ладони ты плачешь? Ты одна – опустелый дом… Только по полю рассеяны маки… Я вхожу к тебе, сделав вдох, я вместе с тобой буду плакать… Нет! Как я мог так поступить с ними? Как! Как паскуда! Нет, Россссия – не тетка, не мать, а подросток, не наигравшийся в солдатиков! Жадный подросток! Злой! Злой! Это моя страна. Моя и Киры. Что, Мари, теперь ты поняла? Родина все помнит. Я тоже играл в солдатиков… Я солдатик моего отца. Мари бы все равно умерла. Но так это сделал я. Я тебя понял, но я не умею прощать. Ты мое прошлое, а я двигаюсь в будущее. Я отпускаю тебя. Отсечь все старое. Свое прошлое. От себя я отсек Мари, от Киры – Эрика. Он бы все равно остался калекой. Зачем ему жить? Чтобы его жалели? Жалость нужна слабым… Глупый Эрик робко прятал тело жирное в постели, Кира – это буревестник, вся она свободой дышит… буря мглою тучи кроет, тучных туч густые тени, покрывая всю больницу в окна лезли прямо к мертвым… И подует новый ветер… ветер веет… туч разливы, отражаясь над землею, над судьбой людей смеются… и раскаты мокрой грязи – всей весны прошедшей слякоть – небо гордо отражает, оставаясь все же чистым. Кира – это буревестник, только ей подвластно небо, и раскаты гадкой грязи не запачкают ей платья… Кира – это новый ветер, ветер ведь дитя свободы, и раскаты грома тоже… только в спину ей смеются… град горохом рассыпаясь, шаг ее – на грани срыва, и слюнявый дождь измызгал юбку, волосы разбрызгав… горький воздух в легких бьется, он наполнит силой мышцы, на борьбу, в которой сгинут неизвестные солдаты… звук бесструнной укулели наполняет возглас чаек… молний тысяча бесплодных отсветов вокруг сверкает… все вокруг любви подобно… Я сказал «любви»? но все же… неужели это правда? Только ей служить готов я, только в ней я вижу смысл! Только Кира – буревестник! Знаю, скоро грянет буря!»
19