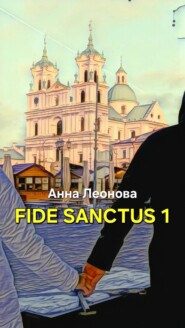По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Fide Sanctus 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– С декабря я не резал руки, – глухо признал Свят; его чёрные глаза горели стыдливой, тревожной тоской. – А в январе я сделал это только раз: когда ты сказала, что всё кончено, и уехала на каникулы. Всё совсем по-другому, когда… ты со мной. Я не хочу так больше, Вера. Я хочу, чтобы шрамы зажили и разгладились. И не хочу свежих.
Его прикосновения были нежными, но эти слова звучали… жутко.
Так вот почему тебе надо, чтобы я всегда была рядом?..
– Но я же… не бинт… – простонала Верность Себе. – Я не йод! Не яркий ночник!
– Перестань! – жарко взмолилась Верность Ему, зажав ей рот. – Оголтелая, бездушная, невыносимая дура! Он доверился тебе! Он так в тебе нуждается!
Ничего не ответив, Вера молча смотрела на профиль, который с октября считала баснословно прекрасным; прекрасным он и был. На набережной медленно зажигались фонари, и их лучи касались его густых бровей и длинных ресниц так искусно и выигрышно, словно он заключил с фонарями бессрочный контракт.
Сейчас он не был похож на того, кто уже два месяца лишал её дней в уединении.
Сейчас это был одинокий и растерянный, бескрайний человек, за ночь с которым она ещё в ноябре отдала бы несколько лет жизни. А теперь он здесь; он с ней.
И доверяет ей настолько, что препарирует своё сердце, назначив её понятой.
Она же так мечтала об этом!
Почему же теперь не получается сполна ценить это чудо – то, что он с ней?
– Малыш, – спрятав глаза, пробормотал Свят; на его щеках зажглись алые пятна смущения. – Ответь мне на один вопрос. Он очень простой. Ты со мной?
Не успев скрыть жалостливое сострадание во взгляде, Вера обхватила его горячую шею и уткнулась в неё губами. От него пахло подсохшей кровью и пряным дождём.
Он пропах этим горьким апрелем; пропах насквозь.
– Конечно, с тобой, – вполголоса произнесла девушка; она молчала так долго, что голос показался хрипом обёрточной бумаги. – Я не очень-то рассчитываю на чужие деньги. Так уж повелось. Я предпочитаю рассчитывать на свои.
– Я… придумаю, где заработать, – будто не услышав её ответа напряжённо пообещал Свят; его кадык подрагивал. – Если стипендии и Роминого лимита будет вообще не хватать. Ответь мне на главный вопрос. У нас всё по-прежнему?
– Всё, что мне нужно в тебе, никуда не исчезло, – глухо прошептала Вера.
– Неужели? – уронила Верность Себе; её глаза горели циничной тоской.
Свят выдохнул и тихо рассмеялся; теперь дрожал не только его кадык, но и жилы шеи.
Новая тишина не резала. Положив голову на его плечо, она неподвижно смотрела, как сверкают бликами фонарей уже более редкие дождевые капли.
– Малыш… – пробормотал парень, тяжело вздохнув. – Я же хотел… подарить тебе…
– Да и ладно, – монотонно проговорила девушка, поцеловав его пальцы; на большом и указательном были следы запёкшейся крови. – Я ведь тоже ничего не подарила тебе.
– Как это ничего? – с жаром воскликнул он. – Ты забыла, где родились мои двадцать?
Желудок заныл; воспоминание о сексе под душем было слишком живо.
– Я могла бы подарить больше, – рассеянно уронила Вера, тонко улыбнувшись.
– Ты могла бы подарить раньше, – мечтательно поправил он. – Но больше… Нет. Что может быть больше тебя?
– И всё же я бы подарила что-то ещё, – повторила она; сил по-прежнему не было, в салоне царило уютное тепло – и мозг едва работал. – Подарила бы что-то такое, что…
– Я бы подарил тебе свою жизнь, – тихо сказал Свят.
Осёкшись, Вера покачала головой и вновь закрыла глаза. Это признание отчего-то отозвалось в груди печалью; хотелось спрятать лицо в ладонях и безвольно заплакать. Рвалась она оплакивать маленького Свята с порезами на ладонях – или жалела себя?
«Себя»? Почему? Он говорит то, что от него хотела бы услышать любая!
По её рукам плясали фонарные блики, преломлённые мокрыми стёклами, – но это только собирало в горле ещё больше слёз.
Везёт фонарям. Они всё ещё могут светить.
– Малыш… – прошептал Свят; в его голосе звучала растроганная ласка. – Ты самое настоящее… что было у меня в жизни… Ты мой смысл. Моя… суть. Я не хочу без тебя ни минуты. Ничего без тебя не хочу. С самого октября я просто переполнен тобой – и не желаю ничего другого. Только твои мысли. Твои слова. Твоё присутствие. Ты не представляешь, до какой степени… во мне много тебя. До какой степени я… твой.
Всё пространство под рёбрами залилось бесформенной, испуганной нежностью… Стало стыдно за каждый виток злости в его адрес; за каждую ночь, которую она хотела провести по отдельности. Его «смысл». Его «суть».
А она всё пыталась отвоевать право на «отдельность». Как жестоко это было!
Может, он прав?.. Может, каждый для того и ищет по миру свою единственную отраду, чтобы больше никогда не рваться к «отдельности»? Он прав. Да.
Пусть прав. Но почему его признания вызывали столько глухой горечи?..
…Всё это было слишком. Этот день; этот дождь; этот рассказ.
Она больше не могла бороться со смрадным бессилием в теле.
Медленно повернув голову, Вера с тоской уставилась на Реку, что бурлила пузырями бесноватого дождя. И в тот же миг грудь обжёг горячий и ненасытный… изувеченный, измученный страх. Именно сейчас – когда их весна тонула в затяжном ливне – она вдруг ясно поняла: главный ливень ещё впереди.
И его не избежать. Никак; никому; ни за что.
ГЛАВА 25.
16 апреля, пятница
Подхватив со стола ветку винограда, Вера покосилась на руки Никиты, что увлечённо разлиновывали воздух.
– Календарь, – проговорила она, отправив в рот зелёную ягоду. – Сетка. Тюрьма.
Все остальные в комнате запойно молчали.
Авижич нетерпеливо дёрнул плечами и изобразил правой рукой конспектирование.
– Пишут что-то… – протянул Олег с дивана, на котором лежал, закинув руки за голову. – Строчки… Столбцы… Клетки… Ну окей, тетрадь, понятно. Дальше-то что?
Покачав головой, Никита постучал по лбу так, будто его окружали слабоумные.
– Конспект? – с набитым ртом предположила Вера; виноград был страшно вкусный, и оторваться от ветки было сложно. – Блокнот? Ежедневник?