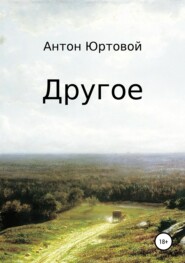По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Миражи искусства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это «усреднённый», обычный подход к тому, что размещено в наиболее деликатном слое нашей этики – там, где привычное и всем хорошо знакомое не предназначено к массовому открытому употреблению, а, наоборот, удерживается «в себе» и воспринимается как запрещённое. Человеку не всё дозволено. Каждый, видимо, внутренне сжимается, принимая пищу за обеденным столом «под аккомпанемент» телевизионных или радийных сообщений о каких-либо гнойных болячках, о расстройствах стула, о составляющих мочи и кала, о тошноте, об оральном сексе. Подавать такую информационную продукцию в любое время суток и любой аудитории вроде бы уже и не считается неприличным: предметы ведь в принципе не закрыты, не под цензурой. Однако в один ряд с ними ставятся теперь и предметы, к употреблению не допускаемые по соображениям морали и нравственности. Такие, как матерщина. В условиях, когда в воздухе витают представления о свободе как абсолютной величине, людям может казаться, что и тут не должно быть никаких ограничений. Открытое и всё более широкое пользование матом становится явлением обыденным, неосуждаемым. В эпоху, заявляющую, будто она способна сотворить культуру наивысшего образца, – что это? Непонимание самих себя? Эзотерика? Или провал, куда в безумии устремляется большинство?
Вопросов, связанных с бытованием матерщины, так много, что оставаться от них в стороне, кажется, уже невозможно. И тем не менее все отмалчиваются. Да, иногда высказывают неудовольствие. Но при этом сами часто совмещают праведный гнев с употреблением слов из непристойной лексики. Особенно изощрены в притворствах учёные, педагоги, лингвисты, политики. Притворяясь рассерженными, они, как истинные блудяги, пока палец о палец не ударили, чтобы хоть объяснить, откуда есть пошла матерщина. Что за феномен? О том, как с ним бороться, надо ли бороться или пусть-ка он катится куда сам пожелает, даже боятся говорить. Скажут, – да не так! И вправду – неохота краснеть за свою трусость, за скудную компетентность, за невежество. Обходятся порожними нравоучениями, ратуют за полный запрет строгим законом. Слепцы!
Кому хоть раз довелось бывать в доме российского правительства, когда там восседал Ельцин, тот не мог не услышать отборной матерщины, что называется, в каждом тамошнем уголке. Снизу доверху по всему огромному зданию. По случаю гнева и по случаю благодушия. Сам хозяин Белого дома выражался матом легко и непринуждённо, точно с вешалки пиджак снимал. Матерный словарь присутствовал в каждом кабинете; ругательствами перемежались обсуждения самых важных для государства вещей. Бывавшие в Белом доме вечно пугливые провинциалы досадливо укоряли себя: как это мы, входя, скромничали? – Теперь, понаблюдав, понаслушавшись, и уже – от «самого», отставать, конечно, не будем, хотя, впрочем, и не отставали раньше.
К такой же точно дикой преемственности открыты все ворота и двери московского Кремля, всех его учреждений.
Матовое половодье давно захлёстывает Россию. Люди в галстуках, с модными причёсками, дети, военные, бомжи, тюремщики, роженицы – всем привольно в его глубинах. Все основания есть не верить в искренность тех, кто изображает из себя ангелов. Раз уж исходит мат из теле– и радиостудий, с театральных подмостков, из книг, с публичных тусовок, то чего ещё нужно больше? И такое впечатление, что это как бы второй воздух, без которого общество уже не может жить. А всё-таки должно же быть объяснение этому странному чертополоху в «великом и могучем» русском!
Давайте осмотримся.
Читая тексты на древнерусском языке, нельзя обнаружить в них матерщины на всём долгом этапе от упоминаний о первых славянцах до той поры, когда на смену устаревшему словарю возникал новый, которым мы пользуемся сегодня.
Практически ни одного примера! Среди наших далёких предков как бы не находилось никого, кто хотел изъясняться нелитературно! Скажем, автор «Слова о полку Игореве» настолько изящен в изложении горестей, выпавших на долю русичных дружин, что, кажется, он знает всё не только о том, что связано с их интересами, но и о наших тогдашних ворогах. Надо бы в сторону этих последних выражаться покруче, с оскалом, со злобой, а, значит, не иначе как с матом. Нет, он соблюдает меру. Только в пределах допустимого – в том, ещё непросвещённом обществе! И уже тем велик перед нами.
Века спустя собственные лютые передряги описывал протопоп Аввакум. То, что суждено было вынести этому непобеждённому и с подачи патриарха Никона сожжённому староверу, холодит кровь, взывает к ярости. Но страдалец не уступает своим крайним чувствам. Строчки его «Жития» и других произведений не испорчены языковой грязью, их правдивая, искренняя стилистика блещет словно бы омытая в чистейших струях.
Имея столь благородную историческую канву, так и тянет предположить, что в древности мата у нас не было. Разве плохо? Размышляя о худшем в собственных душах, мы теперь могли бы, что называется, день и ночь твердить о нашей непревзойдённой скромности в прошлом, выставляясь в истории эталоном почти как девственной невинности и чистоты. Как ни странно, попытки зацепиться в прошлом языке за что-нибудь розовое делались много раз и на полном серьёзе. Очень хотелось учёным отличиться на пустом месте! Конечно, то была блажь. Мат существовал и в тех отдалившихся веках. Что он был уже вполне зрелым, таким, который и нам пригодился, не стоит даже особо доказывать. Найдите среди давних изданий матерную поэму Баркова, полистайте, и – не останется, в чём тут сомневаться дальше.
Если не стремиться к особой точности, то литература у нас украсилась отменным броским матом что-то немногим больше двух с половиной столетий назад. Где-то в преддверии царствования Елизаветы, дочери Петра, воспевавшейся Ломоносовым. Тот писал на ломаном современном русском, который был ещё старым, восхищался им, о матерном же сленге не проронил ни звука. Хотя трудно представить, что о таком явлении он не знал. Также трудно представить и то, что непристойностями не украшали свои речи царь Пётр I, а ещё раньше такой маньяк из рода Рюриковичей как Иван IV, многие другие невыдуманные исторические персонажи. Но, кстати, тот же Иван IV, как сочинитель посланий к его врагам и при этом будучи даже в большущем гневе на них, не позволял себе отойти от лексики нормативной. Самым «чёрным» обозначением, которым он пользуется, обрушиваясь, например, на сбежавшего за границу князя Курбского, стало вполне обычное слово «собака».
К этому нелишне добавить, что и в русском, и в мировом эпосе неприличным для восприятия словам и выражениям места не находится. Исключения бывали, но очень и очень редкие. Так, в хакасском народном эпосе «Албынжи» можно прочитать бранное словосочетание «ит-табан», которое в литературном значении в принципе не столь уж ругательное, поскольку в переводе звучит обыденно: мясистая пятка. В плане историческом такая брань относилась, видимо, к тем людям, которые выглядели неумёхами, путаясь в стременах при посадке на лошадь. В сравнении с матом наших дней эта реакция представляется совершенно, кажется, неоскорбительной, безобидной.
Барков остался, пожалуй, непревзойдённым в использовании матерщины в целях более доходчивой художественной выразительности языка. Тогдашняя дворянская вольность, позволявшая любое надругательство над личностью крепостного, как бы не особо и нуждалась в таких пошлых извертах. Низводя крепостных к нулю, дворяне предпочитали воспитывать в себе изысканность, утончённость, культуру духа. По этой причине выплески матерщины в литературе быстро сходили на нет. Как мы помним, великий Пушкин, будучи крепостником, также иногда порывался отметиться матом в мысли или в строчке, но так или иначе вынужден был подавлять в себе это пагубное стремление. Ему и ему подобным подражали, не выходя, так сказать, из рамок. Хорошая то была традиция. Но слишком долго её придерживаться у общества и в том числе у самого культурного сословия сил не набралось. Ведь матерщина выступала определённо как средство соприкосновения с вольностью, то есть как бы в роли змия-искусителя. А когда заговорили о провозглашении свобод и, в частности, свободы слова, то подошли почти вплотную к тому, что уже не только можно, а и нужно применить эту всеобщую ценность также и к самой спорной части словарного запаса.
Как и в постпетровские годы, матерщина вновь рвётся к порче словесной и разговорной культуры, к извращению нравов. Появились писатели, вроде Пелевина, которые задались нелепой и вздорной целью обмусорить матом все свои произведения. Ни правительство, ни наука не знают, что с этой напастью делать. Как представляется, потому, что не знают, что это такое. И даже, похоже, знать не хотят. Тем самым проблема бытования мата в современном обществе ещё больше загоняется внутрь.
Может, в самом деле – взять да и запретить его? Изъять заразу с помощью закона? Заштрафовать употребляющих? Любой разумный человек скажет, что такие усилия не дадут ничего. Тогда – что же надо сделать?
Как тут ни крутить, а без выяснения, в чём, собственно, заключается предметность мата, его сущность и происхождение, никак не обойтись. Поскольку же опереться в рассуждениях на эту отнюдь не простую тему пока не на что, – нет ни толковых научных изысканий, ни даже популярных дилетантских наработок, – любому, кто расположен хоть как-то войти в неё с целью её исследовать, не дано иного, кроме как взяться за дело на свой страх и риск. Давайте до лучших времён именно вот на этом и порешим. И попробуем отодвинуть хотя бы часть завесы, за которой укрыты и сам интересующий нас предмет, и его порочная загадочность.
Вне всякого сомнения – матерщину следует рассматривать прежде всего как составную народной этики. Но с «обратным» знаком.
Это – как?
Язык, являясь великолепным инструментом общения, не может не идти в одном направлении с тем набором ограничений, которые устанавливаются обществом и обязательны для всех его членов. Нельзя убивать. Нельзя не почитать родителей. Это что касается поступков. Но также нельзя кричать «ура!» на церемониях скорби, называть дом горошиной, что относится уже только к словам. О чём бы ни завести речь, всему давно установлена своя мета и своя мера. Если действующие ограничения не оформлены в законы или в административные решения, если они «вольные», то есть – неписаные, это в совокупности и образует то, что именуется этикой. Как целое, язык от неё неотделим, вследствие чего она получает всенародный, всеобщий для нации статус. Если разделяется на слои язык, то имеют место и соответствующие разделы в этом всеобщем – этика служебная, корпоративная и проч.
Есть тут ещё один немаловажный аспект. Свою площадку в этике занимает цензура. Вовсе не та, которой мы все боимся. Когда в нашей действующей конституции запретили цензуру и одновременно гарантировали свободу слова, то ошиблись коренным образом. Цензура, которой мы боимся, касалась ограничений безусловно важных, ставших помехой. Но конституция уравняла с ними и тот набор, какой замыкается в этике, что вовсе недопустимо. Этика – тот же наш основной закон, только неписаный. Отменить его не может никакое правительство, ничья воля, кроме совокупной народной. А раз это правило нарушено да ещё установлена и гарантия для свободы слова, то, значит, оказываются смятыми все этические ограничения. В том числе – и на мат.
Матерщина – это слова, которые неприлично произносить не по каким-то отдельным поводам, а как бы в любом случае. Каждому, без исключения. Наверное, так оно когда-то и могло быть. Равные перед нормой, люди весьма отдалённых от нас времён вправе были осуждающе относиться к любому, кто бы мог позволять себе выражаться неподобающе. Только ведь жизнь не может остановиться и замереть в одной ипостаси. По мере того, как общество развивалось, «расслаивались» понятия о поступках, и сразу шло «расслоение» словаря. В реальном выражении мат мог употребляться в разболтанных, преступных и прочих сообществах. Или отдельным человеком, приобретавшим власть над другими людьми.
Следуя такой логике, нельзя отрицать, что, как слой в языке, мат, видимо, мог существовать чуть ли не изначально. Филолог Бахтин в одной из его работ, рассуждая о проблемах речевых жанров, – а именно под такое определение совершенно легко подпадает матерщина, – витал, можно сказать, в облаках, когда о речевых жанрах предпочёл говорить не в подробностях о каждом, а в целом обо всех. Вот как это у него представлено:
«Если бы речевых жанров не существовало и мы не владели бы ими, если бы нам приходилось их создавать впервые в процессе речи, свободно и впервые строить каждое высказывание, речевое общение… было бы почти невозможно…»
И дальше в той же обёртке:
«Чем лучше мы владеем жанрами (речевыми. – А. Ю.), тем свободнее мы их используем…»
Исследователь, правда, оставил нам некий «список», перечислив там фамильярный, интимный, нейтральный и другие речевые жанры; но дальше двигаться не пожелал. Каких-либо пояснений, что они собой представляют или почему возникли и распространены, Бахтиным не дано. О ненормативной же лексике филолог в специальной работе вообще не говорит ни слова. Копируя предшественников или, как уже нынешние великие молчальники, он попросту, видимо, не был готов коснуться вещи далеко не стерильной. Не имел настоящего научного интереса к матерщине. Его рассуждения концептуально свелись к одному – к округлению мысли. Вот так и все практически всегда обходят матерное болото, зная лишь, что оно грязное.
Наша ненормативная лексика чудовищна тем, что вбирает в себя слова с сокровенным смыслом. Возьмите германскую ругательную традицию. Там произнесение таких словообразований как, скажем, Donnerwetter! (Гром и молния!), имеет вес, но не оскорбительно; по своей исторической сути и по семантике это яростное выражение угрозы, которой каждый не может не убояться до ужаса. И в самом деле – что может быть зловещее поражающей нас молнии? Тот, кто испытывает её воздействие, почти как обречён. В современном немецком языке это хотя и выглядит имитацией, но тут остаётся важная составляющая: древнее народное представление о величине гнева дальше поднимать некуда. Это – Гималаи. Шутки тут не проходят. Этику с её деликатностями такой оборот устраивает вполне. И если уж кто «мечет» «громы и молнии», то, как правило, всего лишь чтобы возбудить к ярости прежде всего себя самого («чёрт возьми!»). Другим здесь не так уж и страшно. И всё равно: как и за само проявление гнева, так и за то, что при этом он может кому-нибудь адресоваться, указанное ругательство в германском обществе осуждаемо.
Русская ругательная лексика по своей функциональности – обзывная, оскорбляющая. Мат употребляется и как способ возбуждения для пользователя, и как третирование других. Говоря иначе, в мерзостные отношения втягиваются наряду с матерщинниками те, в чей адрес ненормативная лексика направлена. Да если бы только это! Основой, на которой держится мат, являются названия гениталий. Те, которые могут оказываться наиболее огрязнёнными, вследствие чего народной, всеобщей этикой употреблять их словарные обозначения в разговорной речи не предусматривалось категорически (табу). И для взрослых, и тем паче – для детей. Предусматривалось только употребление узкоцелевое – когда оно не могло быть иным, кроме как осуждаемым. Ругательство гениталиями со временем совершенствовалось. Так появлялись глагольные и другие формы, где нашёлся приют всему сексуальному. В матерщинную орбиту вслед за этим или одновременно включались названия органов срамных, равно как и срамные отношения между людьми.
Этапы развития процесса, между прочим, явственно указывают на происхождение матерщины уже в глубокой древности. Или, по крайней мере, – при зарождении языка. Жутко даже произносить: уж не в ту ли мат появился пору, когда наш древнерусский язык превращался в современный русский? Это ведь – совсем недавно!
По-своему в нём отражена не только возраставшая распущенность общества; сокрытие разговоров о гениталиях и о других вещах матерного ряда оставалось ведь нормой морали и нравственности ещё в то время, когда распространяться о них публично приходилось без других, цивилизованных обозначений. Пока с установлением новых слов шла задержка и поскольку они получались также не очень-то благозвучными (соитие, влагалище, пенис и проч.), их заменитель, мат, уже начинали использовать в речи всё чаще, несмотря на запреты. Как-то всё-таки надо было тут изъясняться, находить выход, что ли. Кончилось, как мы знаем, грубейшим злоупотреблением.
Наследьице от предков, ничего не скажешь!
Любопытная деталь. Русскоязычный мат, соприкоснувшись с другими языками, в некоторых случаях вызвал там настоящее смятение. По иронии судьбы, скажем, в мордовском-мокша языке слова «отец» или «папа» воспроизводятся в одинаковом звучании с переложением на мат слова «пенис». Надо только представить всю нелепую ситуацию с обучением родному языку детей в современных мокшанских семьях и в школах! Не знающие этих тонкостей продолжают лопотать о прелестях выразительности русского языка, о неизбежности ассимиляции «под неё». На деле же, если не упускать из виду «оматования» любого нерусского наречия, процесс во многом чреват тяжелейшим духовным уроном и унижением сторонних этносов. Порой из-за одного-единственного слова!
Подведём черту.
Изобретение матерщины сначала выглядело как возможность и средство укрепления нравственности. Но вовсе неразумным для народа было выбрать в качестве пугала гениталии. Когда, находясь ещё в путах крайнего невежества, обозначающими их словами, словно каменьями, стали бросаться друг в друга, то как раз в этом месте и пошла настоящая роковая порча и языка, и самой этики. Удвигая от нас ограничения всё дальше, нынешняя свобода способна этику вообще избыть. Не стоит, наверное, говорить о том, что и языку при этом нисколько не легче.
Неизбежны последствия, которых ожидать не хотелось бы. Но тут уже никто ничего поделать не в силах. Мат способен так глубоко войти в языковую ткань, что там он уже и будет оставаться. Причём не только в обыденной речи, в разговорной практике, но и всюду, где только используется слово. Что мы уже к большому нашему сожалению и с отчаянием наблюдаем чуть ли не с каждой минутой жизни.
Устранение мата, очищение от него языка – пустая блажь, нелепая выдумка рафинированных воспитателей, схоластов-учёных, беллетристов. Готовиться надо, может быть, к самому худшему – когда испорченный до пределов словарь свалится от своей же испорченности. Кому он нужен, грязный и вызывающий – на уровне воровского жаргона? Общество, если у него достанет желания иметь взамен новую этику, более жизнестойкую, чем сейчас, вынуждено будет позаботиться и о новом языке для себя. Иного не дано. И не нужно слёз. Осквернённое по нашей же скверной совокупной воле должно исчезнуть. Уйти в прошлое. Чем быстрее, тем, кажется, лучше.
Изобразительный ряд
I. МЕТЛОЮ ТАМ, ГДЕ КИСТЬ ЛЕГЛА
Бывая на выставках произведений искусства, двигаясь от одного экспоната к другому, немалая часть посетителей как-то очень легко и порой даже вызывающе оставляет без внимания тот очередной образец, который оказался перед нею в данную минуту. Она торопится вперёд, рассчитывая, может быть, увидеть нечто для неё более привлекательное. Что именно или в соотношении с чем – она не знает, просто ходит, разглядывает. Ей нет нужды где-нибудь задерживаться, что-то замечать, запоминать, чему-то удивляться. Это – всего лишь прогулка по залу. Всю экспозицию и очень тщательно рассматривают, как правило, люди искушённые, в понятии которых искусство есть не предмет бесцельного развлечения или траты свободного времени, а средство поднять выше свою духовность, некая выверка индивидуальной чувственности, её настроенности на восприятие прекрасного, на раздумья по поводу увиденного.
Но итоговые замечания могут быть у каждого. Все вместе они образуют своеобразный банк данных об успехе или неуспехе устроенного обозрения. Его, этот банк или реестр, можно представить, но в полноте как наличность иметь нельзя. Даже если в дело включаются средства массовой информации, где отдельные компетентные отклики часто обречены растворяться в массе пиара. Важное значение имеют поэтому хотя бы и немногочисленные записи в журналах отзывов посетителей да ещё устные высказывания приходящей публики, если их каким-то образом удаётся фиксировать. И вот в этом месте случаются вещи довольно странные, порой мало или совершенно не совместимые с задачами и практикой показа образцов искусства.
Находятся люди, которым доставляет, кажется, удовольствие выразить свое крайне резкое отрицательное мнение об увиденном. Свобода на мнения это допускает. Но что делать, если здесь умысел, расчёт, выплеск обиды или даже злости? Само искусство вроде как требует определённой реакции от его потребителей. Однако ясно, что и беспредел тут вовсе некстати. В противном случае могут быть поставлены под сомнение самые благие намерения организаторов показа, а главное – возбуждается нездоровый и несправедливый экивок в сторону творчества того или иного мастера.
Обратимся к неудовлетворительным оценкам произведений на выставке работ художника Ильи Глазунова, состоявшейся в музее им. Эрьзи. В числе других вот какие записи можно было прочитать в журнале отзывов на эту экспозицию:
«…ожидала большего. Достойны внимания 1-2 картины. Нельзя же так пренебрежительно относиться к посетителям и выставлять абы что!»
«Спасибо Глазунову, что помог ещё раз полюбоваться Сычковым и другими мордовскими художниками. Скучно! Репродукций… очень много».
«Полное разочарование. На фоне Сычкова и Макарова Глазунов – школьник».
Если такую отмашистую критику принять за чистую монету, то отсюда недалеко и до полного отрицания Глазунова как художника, со всем его творчеством. Да, пожалуй, и как личности – тоже. Не нравится он, и всё, ату его! Это откровенно разгромные мнения, наподобие тех, какие выражались пролетариями по командам от их вождей.
Что могло вызывать столь глумливую реакцию? Ведь просто нескромно и невежливо так-то вот сводить к нулю всё, чем Глазунов завоевал себе признание. Он завоёвывал это признание, будучи сыном своего века, находясь в самой страшной эпохе, не желавшей ничего, кроме восхвалений, нужных режиму.
Наверное, из-за того и заметны на нём одежды традиционалиста, консерватора, сначала не успевшего, а после уже и не пожелавшего окунаться в бурлящую стихию модерна, для многих оказавшуюся погибельной. Разве нельзя разглядеть в его картинах, как мучительно было для него выбрать и отработать свой оригинальный стиль, какое требовалось напряжение, чтобы не впадать в подчинённость и в угодливость?
Пусть немало в его творчестве отстранения, ухода в натянутую, искусственную историчность и в мистику, в сомнительную плакатность и панорамность, но ведь нельзя же не принимать во внимание и того, какие вершины исполнительства ему удалось покорить.
Что значит работы «недостойные» – все, кроме одной-двух изо всей экспозиции? Вот бы знать – это какие? Если «Сын ждёт отца», где при густом наложении красок темнотой и тревожностью ночи заслоняется и как бы упрятывается фигура сына, так что даже возникает подозрение, не наоборот ли, не отец ли ждёт сына, то, возможно, здесь и впрямь не обойтись без упрёка. Или, скажем, надуманная «выровненность» образа в «Юности Андрея Рублёва», возникшая из-за того, что художник изобразил своего исторического собрата по ремеслу с прикрытыми веками, не показав глаз, да ещё и с цветочком в руке у пояса, отчего от полотна веет охоложенной пустой манерностью и чуть ли не игривостью, которые здесь неуместны. Что поделать, ни у кого не обходится без посредственного.