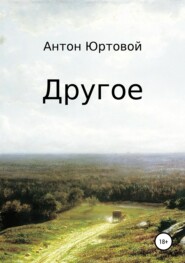По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Миражи искусства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Зато какие глубины открывает нам мастер в ряде других его творений. Глаза, их броская выразительность, воплощение в них сущности характера – в приёмах их прорисовки Глазунову, пожалуй, не найдётся равных, где бы их ни искать. Чего стоят образы одних только героев произведений Достоевского, запечатлённые в иллюстрациях к текстам.
На одной из работ этой серии – две головы, размещённые рядом. Это – «Верховенский и Лямшин», иллюстрация к «Бесам». Глаза одного из персонажей, представленного в затенении, выделены мощными световыми штрихами на зрачках глаз, и от того с большой достоверностью, уже в единстве, в общем осмыслении воспринимаются сразу оба характера, оба лица. Разве не следует отдать должного такому отражению коллизий, запечатлённых в известном романе?
Именно с творчеством Глазунова закреплена в нашем сознании величайшая и уже зримая напряжённость мыслей и чувственности в наследии, оставленном Достоевским. Оно говорит нам об очень внимательном прочтении мастером кисти всего творчества этого писателя, гения художественного психологизма, непревзойдённого и до сих пор, и, возможно, – на все времена. И оно же не может не говорить о том, как важно, расценивая иллюстрации к его произведениям, хорошенько знать этот пласт литературы также и нам с вами. Без такого знания не может быть сколько-нибудь стоящего, справедливого отношения и к художнику.
Так же, как некорректны суждения о непрочитанной книге или о непройденной дороге, точно так же должно восприниматься и отрицание значимости работ в изобразительном искусстве, если давать о них отзыв, не вникая в их суть или только накоротке с ними знакомясь, игнорируя свою ответственность по случаю допускаемой несправедливости. Пробежать по залам и только что-нибудь успеть увидеть в экспозиции – такая, с позволения сказать, мера участия – не лучшее расположение к искусству. Она просто не даёт серьёзного права выставлять себя, со своими куцыми запросами, перед теми, кому искусство всегда дорого или кто хотя бы старался быть здесь пограмотнее и поделикатнее.
Пробежки по верхам – явление вовсе не новое и присущее не только провинции. Как это ни прискорбно, и в залах крупнейших музеев и галерей мира, и в тесном помещении какого-нибудь сельского клуба посетители выставок ведут себя почти одинаково. Профессиональные искусствоведы могли множество раз наблюдать ситуации, когда экскурсанты, будто бы сговорившись, только мимоходом окидывали взглядами работы, непревзойдённые по эстетической ценности, шедевры в лучшем значении этого слова, и отсюда спешили к разделам, содержащим элементы упрощений, распахнутой эротики, деталей бытовой и моральной нечистоплотности.
К стыду всего человечества, в наши дни учреждения культуры даже самых высших рангов не прочь выставлять такую продукцию наравне с лучшими образцами, рассчитывая таким образом привлекать как можно больше публики. Это издержки, которыми под корень срезается великое дерево культуры, феномен, не имеющий замены.
Приходится считаться с тем, что процессы экспонирования искусства чем далее, тем больше девальвируются, приобретая часто зыбкие, малопривлекательные очертания. Их действенность рушится под натиском той привычки к лёгким и как бы даже необязательным восприятиям, каким люди постоянно обучаются, бездумно просматривая сомнительные телесериалы и телешоу, поддаваясь зомбическим нагрузкам на разного рода шумливых концертах, прослушиваниях ударной музыки, дискотеках, вчитываясь в бессодержательные романы и поэтические строки. Даёт знать и всё нарастающий вал поставок новых продуктов настоящей, ответственной, большой культуры, где, бывает, не так легко разобраться что к чему.
Находясь в таких обстоятельствах, человек порой не способен заметить перемену в себе, уводящую его от реальной жизни. Ему ничего не стоит аплодировать скучнейшему спектаклю и так же ничего не стоит устроить ему провал. Условное становится преобладающим. После чего то условное, каким бывает насыщено всё в искусстве, привычно расценивается по заученной мерке. Вовлекая его в общий круг развлечений, от него ждут чего-нибудь ему не свойственного, без причин выставляют к нему неадекватные требования, неизбежно дистанцируясь от него.
Именно отсюда исходит бряцание укорами, неудовольствием, категоричностью. Вне связи с главным тут будет решительно замечен любой просчёт, любое расхождение с афишей, что-то недоустроенное.
Выставка произведений Глазунова, как мероприятие, в самом деле имела изъяны. Но это вовсе не повод почти в грубой форме принижать всё творчество этого по-своему яркого и талантливого художника, отзываться о нём непочтительно перед лицом пусть бы даже и более ярких или более талантливых мастеров. Твёрдую окончательную оценку им всем, как известно, поставить может только время, которого хватит на всех, – зачем же идти впереди него, наспех заниматься навешиванием ярлыков?
Особое раздражение, как нельзя было не заметить по критике, вызывало то, что среди экспонатов находилось много репродукций. Наверное, тут следовало бы сказать, что даже это легко извинить, имея в виду, как, с учётом состояния современного экпозиционного бизнеса, непросто было уговорить большого, комфортно устроенного и уже пожилого мастера выставиться в провинции. Он ведь не струсил, что будет представлен на одной площадке с Сычковым, с Макаровым, рядом с Эрьзей наконец. Поступок, заслуживающий только уважения, а не наоборот. Зрителям же было, скорее всего, небесполезно ознакомиться с таким собранием работ, самых разных по уровню исполнения, собранием, как представляется, вполне достаточным для уяснения значимости творчества художника в целом, в его совокупности.
Ничего бы мы не потеряли, если бы таких выставок не было? Ну, это, кажется, из того же арсенала немотивированных оценок и неустойчивости в суждениях…
II. ОБЪЕКТ ПИАРА ЛЕГКО УЗНАВАЕМ…
Репортёры, писавшие о выставке произведений Сафронова, как это у них всегда бывает при освещении булькающих сенсаций, оставались и на сей раз верны своим привычкам, излагая событие торопливо и практически все одинаково. Меньше всего им приходилось думать о существе дела, поскольку тут нужно было каждому удивить публику своими затёртыми пассажами непременно первым. И получилось так, что с выставкой они покончили ещё до её открытия или при её начале, задолго до закрытия, – так никому ничего и не сказав нового о месте и значимости представляемых экспонатов в пределах современного изоискусства.
Знакомые подходы пиарщиков!
Надо, однако, отдать им должное. Люди узнали о персоне художника много такого, чего никогда бы не узнать и не услышать, проживая невылазно в закисшей провинции.
Самое же наибольшее, чему каждому тут следовало по-настоящему и навсегда удивиться (а репортёры упорно клонили как раз на это), состояло в том, что, оказывается, вот здесь, рядом, отыскались корни этнического происхождения Сафронова. Кого угодно можно такими изысками сбить с толку. Ну, представьте, вам говорят, что вы в родстве с негром-миллиардером. По меньшей мере это прибавит вам гордости за Африку или США. А уж о чьей-то лютой зависти к вам и говорить нечего.
Наш объект пиара хотя и тёртый калач, его не проведёшь, но тут даже и он вынужден был откомментироваться. Ответ свёлся к тому, что в новой этнической роли он вроде как чувствует себя и уверенно, и неуверенно. А чтобы придать ответу ещё и пикантности, он, зная о себе, что он общемировой любимец, добавил, что какая-то доля крови у каждого россиянина, возможно, татарская, а, возможно, и ваша, други любезные. И даже пообещал посетить в регионе поселение, где бывал в детстве, – чтобы там чего-нибудь нарисовать-создать.
В ту же сюжетную канву вошли перечисления видов манерности, в которых художник будто бы успел выразиться, написав за годы своего творчества что-то свыше семисот полотен. Бывало, конечно, и более, и писались картины чаще. Например, огромное количество работ у Гога; из-под кисти у него выходило иногда сверх одной за день. Количество, как известно, кое в чём способно переходить в качество. Посчитали, что эту великую закономерность можно прилагать и к Сафронову.
При последнем показе его творчества в музее им. Эрьзи у пиарщиков уже не хватало, кажется, слов, какие бы соответствовали его имиджу. Он и авангардист, и символист, и сюрреалист, и кубист, и звезда, и один из самых дорогих, самых популярных, самых психологичных, рыцарь культуры и проч. В данной тематике так же любопытны сообщения официального толка. Были смачно и удальски перечислены должности и звания государственных мужей, чиновников и людей от искусства и просто личностей, без которых устройство экспозиции, наверное, могло бы хоть кому-нибудь показаться мероприятием заурядным или даже худосочным. Допускать подобный просчёт у нас как-то не принято. И чтобы всё тут выглядело максимально гладко, не следовало жалеть ни прыти, ни времени. И – не жалели.
Так вот, сделав своё, репортёры покинули одну сцену, перейдя к следующей. Когда выставка закрывалась, они, правда, вернулись, но, как и в начальном акте, каждый спешил оттянуться первее. Это уже, если хотите, иной тон. И, естественно, в появившихся писаниях, в эфире и на экранах также вообще ничего не могло быть нового. Опять же скажем – нового по существу.
Что в итоге? Экспозицию можно считать проваленной? Или – успешной? И кого на самом деле выставляли? Имеющиеся оценки за пределами средств массовой информации красноречивее всяких осторожных слов. Журнал отзывов, заполнявшийся посетителями, не в пример ковбойским стараниям папарацци, отразил похвальную обширную амплитуду восприятий качества картин заезжего живописца. Вот отдельные мнения:
«Лабуда, не очень-то и за душу берёт, но это массово, грандиозно и брутально!»
«Замечательная идея музея – привлечь одного гламурного художника, чтобы посетители – мимоходом! – заглянули и на постоянную экспозицию. Посмотрели. Сравнили. И сделали вывод: наши-то лучше!»
«…портреты хороши, особенно потрясли рамы».
«…от работ веет… синтезом истории и современности».
«…художник … объединил столько стилей в одном мире!»
«Единственная польза от Ваших картин – это возможность лишний раз прийти в музей и посмотреть на Сычкова и Эрьзю».
«…убедились в том, что Вы являетесь в современности лучшим из импрессионистов».
«…с поразительной … математической точностью Вы прорабатывали каждый штрих».
«Ваше «творчество» на уровне художественного училища. Ничего личного!»
«Вы нашему Сычкову в подмётки не годитесь!».
«Как художник художнику: хотя б пропорции соблюдал…»
«…работы Сафронова отнести к произведениям искусства сложно. …администрации музея стоит более тщательно подходить к отбору экспозиций и ориентироваться прежде всего не на модные имена, а на художественную ценность произведений».
Кроме таких замечаний, в журнале оказалось и много чисто положительных. Там выражались пафосное одобрение и светлые восторги. Но даже если бы похвал набралось больше в десятки раз, нельзя было бы не замечать рациональных и строгих. И, пожалуй, в первую очередь на их-то основе нужно бы выводить выставке окончательную оценку. И уже её разносить по разным отчётам. Именно к тому обязывало уважение настоящего искусства, образцы которого, в том числе мировые, кажется, пока не окончательно забыты в наше торопливое время.
Были, однако, большие сомнения, что показанное, а это лишь небольшая часть от сотворённого художником, могло получить справедливую и точную оценку. В отношении последней надо сказать, что её не может быть в принципе. Это ведь то искусство, где эстетическое подано исключительно в безмерном и почти в статике. Его можно одобрить или забраковать, но в полной мере высказать о нём точку зрения не дано никому. Виновница тут природа наших с вами чувств. Хоть они и велики, но в целом нейтральны: у них нет способности к самодвижению. Чувства «подталкиваются» и развиваются только под воздействием потока мыслей и ощущений. Когда в картине отсутствует чувственное, то и развивать суждения, собственно, не из чего и некуда. Значит, не будет и эстетического, того, в чём мы нуждаемся в наибольшей степени, когда перед нами то или иное художественное произведение.
Что до оценки по справедливости, то здесь также не всё просто. По какой шкале тут вести отсчёт? Легко поддаться уже готовым восприятиям, кем-то сформулированным на стороне.
Люди издавна с опаской относились к такой методе. И хотя это так, в жизни, бывает, иного предложить нечего. Особенно, если в игру вступают официальные власти. Посмотрите: рывок на Запад, в свою популярность, Сафронов сделал главным образом на эротизме. Помогло ещё и то, что любые амбиции, исходившие в своё время из Империи Зла, Запад старательно одевал в политические одёжки. Там пригревали не только гениальных, вроде Нуриева, но и неталантливых, неспособных, а то и просто бездарных. Когда к ним приходило ощущение полной свободы, то естественным было и вскипание их творческой энергии. Возомнивший себя гением горазд был доказывать свой уровень прежде всего, разумеется, количеством работы. Давайте подумаем: не то же ли самое произошло с Сафроновым?
Другой аспект официальной игры вызревал уже на родной почве. Перестроечные судороги России сопровождались прямым угодничеством перед Западом. И раз там кого-то из наших признавали, а затем и превозносили, то и мы, будучи униженными, чтобы выглядеть импозантнее, принимали мину «как все», иначе говоря – и признавали, и превозносили уже по совершённым фактам. Если же так вели себя власти, то не могло быть по-другому и с ими учреждёнными средствами информации. Сюда скоро примкнули и СМИ жёлтого или бульварного цвета, каковых в России пруд пруди. Пиарные шабаши вокруг искусства теперь, что называется, норма и нашей политики, и нашей жизни. И что особенно горько – такие действия больно бьют в первую очередь по тому, что хотело бы вырасти и подняться даже без чьей-то поддержки. В результате по-настоящему ценное в художественном творчестве не так уж редко обречено гибнуть. Предпочтения-то отдаются призракам, за которые кто-нибудь больше платит.
А что же с Сафроновым? Как и любой художник, он имеет право быть честным прежде всего перед самим собой. Если мастер воспринимает свободу по общепринятой шкале, он может легко отойти от любой модели. Другой вопрос – какую модель он для себя искал, нашёл, выбрал и в ней себя выражает. Если чему-нибудь подражать, то в искусстве это значит не быть свободным. Ни больше, ни меньше. Рассматривая картины Сафронова, нельзя не поразиться их однообразию. То есть – как полотна именно этого художника они легко узнаваемы. Но тогда почему смотревшие выставку так часто обращали внимание на принадлежность его творчества к тем-то и тем-то школам и стилям? В нашей современности это является следствием резко возросшего набора изобразительных средств, часть которых стала общей и для искусства живописи и графики, и для простого воспроизводства реального, чему служат, скажем, фотография или дизайн. Ясно, что впрямую Сафронов отсюда не отталкивается. Но также правомерно утверждать, что и у него есть заимствования. Теперь, кажется, даже дети искушены в составлении поделок фотороботов или компьютерных композиций. Рассматривая ту или иную картину Сафронова, легко убедиться, что его замысел мог вызревать из какой-нибудь механистической проработки, уводя мастера в лубочность и залакированность. Но это уже вина не только его. Искусство роняет само себя.
Вместе с этим и отдельная картина, как наиболее подвижная единица изобразительного художественного ряда, лишается общественной востребованности, перемещаясь в уделы частных жилищ или в чисто развлекательные учреждения. Там её функции уже почти целиком укладываются в задаче информативного или декоративного комфорта. Возбуждается спрос на портреты, на что-нибудь броское, сфантазированное, даже нелепое. Художнику здесь можно только посочувствовать. Ему уже просто невозможно быть ни в традиционной роли, ни в исходном великом предназначении. И посочувствовать ещё раз, если он не в состоянии усвоить этого.
Посетители выставок изобразительного искусства, что-то из экспонатов одобряя или осуждая, в такие тонкости могут и не вникать. Много ещё таких, кто не может объяснить, почему он хвалит то, что хвалят власти и СМИ, и почему помалкивает, когда сообща дружно и тупо отмалчиваются обе эти ветви общественного влияния. Значит, его уже впрямую коснулось жало беспощадной целенаправленной идеологической обработки, прикрываемой принципом свободы творчества. Ждать ли тут чего-то лучшего? А кто ж его знает. Ведь одно пока остаётся неизменным – стремление пиарщиков преподнести выгодное кому-то выгодным для всех.
К восприятию прекрасного
ЛОРКА В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ
Поэзия воспринимается как целое.
Есть в этом громадное противоречие с тем, что в любом стихотворном тексте мы, когда прочитываем его, отмечаем и оцениваем отдельные слова или строки, сюжет, ритмику изложения, своеобразные отходы от общепринятого или классического оформления содержательности, некие особенности авторского видения и трактования событий; но по прошествии какого-то срока такая детализированность восприятий уже улетучивается из нашей памяти, и мы сохраняем в ней только общие контуры перевоплощений частей окружающей реальности или чьих-то фантазий, ту предназначенную для моментального распознавания картину, какую нам ничто заменить не может.
Конечно, бывает и того лучше. Прочитанные или услышанные строки, а то и целые тексты, непроизвольно или под желанием прочно укладываются в сознании полноценными избирательными копиями, – бери их у самого себя, наслаждайся ими, используй в любое время. Но при этом нельзя не учитывать качества памяти: быстро и надолго заносить в неё фактурное дано не всем. Наоборот, впечатление в целом, представляющее, собственно, то, что заключается в поэтическом, есть квинтэссенция воспринятого, обобщённый, синтезированный, «сферный» слепок и, так или иначе, обязательно приобретается каждым читателем, что в высшей степени важно. Обладателей этой феноменальной вещи уже можно считать духовными сродственниками, приятными друг для друга, и одновременно – собственниками меры богатства, которой достаёт на всех, на всех. Единство в этом случае всевременное и нерасторжимое.
Если вопреки забыванию о массе подробностей мы испытываем сладкий душевный выплеск, едва лишь наша чувственность через воспоминание коснётся усвоенной поэзии в её настоящем и предпочтительном виде, то это и есть проявление той могучей силы искусства, которое делает его неповторимым, воздействующим бесповоротно и наверняка. Нет чувственного отклика на предложенное поэтом, значит, нет и поэзии. Измерить же её в чём-либо невозможно, как невозможно разделить на составляющие нашу чувственность. Она безмерна в своём сомкнутом единстве и в бесконечной, всеохватной совокупности. Будучи её наивысшим эстетическим выражением, поэзия в любой момент готова и способна волновать и покорять её знатоков и поклонников своей волшебной щедротой и неустранимой таинственностью.
Сегодня каждый, кому нужно, легко отыщет любое известное поэтическое произведение или полное наследие того или иного сочинителя, даже если они изданы только за рубежом. Библиотечная сеть и всемирная электронная паутина широко доступны. А ещё многими не совсем забыты времена, когда ощутимо и до истомления не хватало не то что издававшейся поэтической продукции, но и сведений, информации о ней. Находившиеся в территориальных отдалённостях или в подобных ограничительных обстоятельствах, думаю, понимают, о чём я говорю. Мне самому приходилось убеждаться, как это плохо – отставать. Уже кого-нибудь встречаешь, кто успел где-то прочитать недоступное для тебя, ему повезло прежде всего в том, что он куда-то летал или ездил, там заходил в какой-то читальный зал или даже приобрёл желанный томик, разумеется, непременно по знакомству или втридорога у нечистоплотных перекупщиков. Но – какая досада! Ведь существующее как будто уже рядом – а в руки не шло. Кому-то отдано на прочтение, да те пока не вернули, а ещё и неизвестно, вернут ли. И это всё на фоне выпуска в стране миллионных тиражей книг, нередко с повторами!
Не проще был и официальный путь к рандеву с книгой. В библиотеке в момент возникала очередь на издание, и хотя выдача в случаях с новинками практиковалась на очень короткий срок, что придавало очереди повышенную динамичность, надежда на своё счастье там могла и не сбыться. Часто книга «зачитывалась», то есть уходила из абонемента навсегда. За это пробовали упрекать, стыдить, полагался даже немалый штраф, но случаев умыкания меньше не становилось. Особенно распространённым самовольное изъятие было в городах, в городских библиотеках. Тем, кто не решался участвовать в этой безысходной авантюрной традиции, следовало надеяться только на благосклонность судьбы. Помнится, мне никак не удавалось угнаться за первым русскоязычным изданием стихов Лорки, талантливого испанца, расстрелянного франкистами. Я в тот период служил срочную на военно-морской базе в Авачинской губе. Посещал читальные залы в нескольких библиотеках Петропавловска-на-Камчатке. Поскольку увольнения в город давались редко, шансов где-то оказаться вовремя практически не было. Помогла удача. Очень редко, но всё же происходило пополнение фонда библиотеки в своей воинской части. Она была скромненькой и, конечно, не закрывала потребностей служивых. Вот сюда и пришёл Лорка, в единственном экземпляре, и я, настойчиво искавший его, оказался тем, кому томик «светил» сразу после оформления его в реестровой записи. Мне его выписали ровно на сутки, в так называемый мёртвый час, в послеобеденное время отдыха. Выдаче предшествовала шумливая словесная перепалка возбуждённых читателей с матросом-библиотекарем и между собой, сократившая и без того уже короткий остаток положенного перерыва. Среди претендентов были сам командир части, начальник штаба, другие офицеры. Матрос мастерски уговорил их отступиться в мою пользу, так как я состоял очередником на книжку под первым номером и едва ли с незапамятных времён.