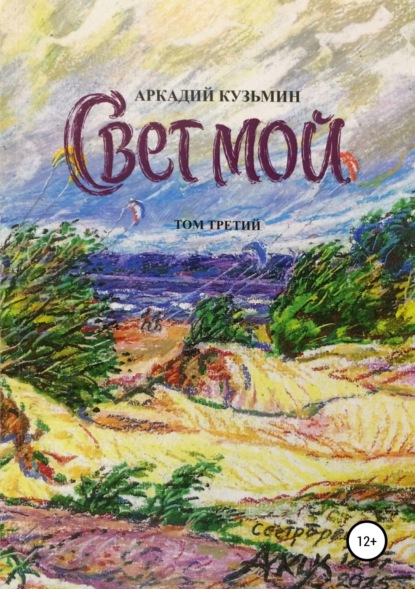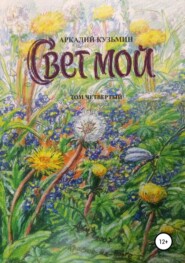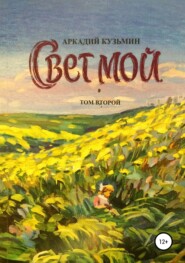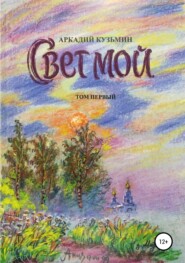По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет мой. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, не знаю. Слышал…
– А знаете, что в ту годину ели дети и на какие лишения и муки люди шли, чтобы все выдержать и спасти их и Родину?
– Право, не помню. Я в таком возрасте был, что от времени блокады (в сорок третьем нас эвакуировали на Урал) только запомнил гулкие шаги по холодной лестнице: «Тук! Тук! Тук!» И запомнил почти такой же «Тук-тук-тук» в дверь квартиры и один неизменный вопрос, раздававшийся из-за нее: «Трупы есть у вас?» Я еще не знал, что такое трупы, – думал, что это как в затейливой сказке какой… еще непонятной для меня… извините…
– Да. Но существует, оказывается, еще страшная драма. Всеобщая у людей. Она стоила только Ленинграду в целый миллион жизней. Унесла их. Ох-хо-хо! А сказка настоящая – это жизнь и даруемый нам мир.
– Ах, мужичишки мои, мужичишки, – проговорил как-то суетно, засопев носом, собираясь добавить что-то и борясь с собой, Илья Федотыч.
VI
В блокноте Антон Кашин записал:
9 мая. 10 час. 50 мин.
Поехали в поселок Мартышкино.
Автобус, грузовая автомашина и старенький москвич, в котором я, Леша Телепов, Нина Павловна и Семен Верный.
Леша расширел. Он, наверное, без очков, но видит, несмотря на возраст. И память у него великолепная: помнит многие фамилии однополчан.
Нежная зелень травы, бегущие ручьи с пеной, моросит, мга, туманно, вуаль деревьев светло-желтая.
Ехали вдоль залива – лодочки и валуны в воде; прохладно, хотя обещали синоптики 12-14
тепла.
Около 11 часов поехали в Таменконг (бывший КП) перед тем как доехать до Мартышкино, перед Срельней, стартовали бегуны из какого-то училища. Так что ехали замедленно, почти шагом. За ними. Потом обогнали, включили скорость.
Лица у бегунов были раскраснелые, потные. Они тяжело дышали.
– Я как привык за возом бежать, так и бежал бездумно всю жизнь, а потом подумал: – зачем мне путаться под ногами молодежи – они уже космосом занимаются – и подался в отставку, – признался Семен.
Улицу уже перекрыли – началось возложение венков. Свернули вправо в гору. Здесь остановились: надо было прихватить еще кого-то. У темных от дождей сараев с дровами почему-то вывешено – полощется белое белье. Мария Михайловна напевает текст песни, которую будут петь у обелиска и запись которой на листке бумаги она держит перед собой.
– Мария Михайловна! Что же делать-то? Эй, Мария Михайловна, кого ждем-то?
Побежали к Польским.
– А ты знаешь, кто пришел! Одного нашего погибшего однополчанина – сын и дочь.
– Он впереди тебя шел в бою? Он проскочил?
– Нет, он там остался. Не догадался солдатик развернуться… Но, сейчас, наверное, уже пройдем…
Действительно: наконец посланная девочка вернулась. Все тронулись, поехали быстрей. Быстрей!
– Давайте! Приглядывайте за нами.
– Что можно сказать. Зря – не зря поддал уже.
Может неприятность сделать.
Немного погода подкузьмила. А может, еще развеется она. Обогнали школьников – те несли венки. Выехали на центр магистрали – была помеха слева – это называется…
– Да, запоздалая нынче весна. Помню, цветы рвали большие. Листья уже были.
Дети по радио услышали объявление о встрече однополчан.
Малую Ижору проехали. На склонах еще лежал снег. В заливе вода серая. Потом пошли сосны с песком. Вода то показывалась, то исчезала, то вновь показывалась сквозь деревья.
– А места здесь хорошие. Этот молодняк – сосенки. Прежде такого выроста не было.
Въехали в Большую Ижору. Бетонка пошла вверх, холмы усыпаны домами.
– Дом проехали. Василевской. Хотя нет. Налево сейчас. Налево.
Подошли к обелиску на братской могиле. На нем значится, что здесь захоронены матросы и солдаты, старшины, сержанты и офицеры 2-ой отдельной бригады морской пехоты, 48-ой отдельной морской стрелковой бригады и других частей приморской оперативной группы 2-ой морской армии Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота.
Красные болота, обомшелые серо-зеленые стволы сосен.
Выступал седовласый (из-под Полтавы), говорил, что здесь лежат такие же юные, как солдаты. Это их преимущество перед нами – однополчанами.
Выступил бывший подполковник из солнечной Армении, весь в орденах. Связист. Говорил о том, что связисты, если становилось нужно, переквалифицировались в разведчиков. Приводили «языков». Один раз пошли двое разведчиков таких – и оба не вернулись – погибли.
Потом выступал украинец:
– Мы прикрыли с юга Кронштадт, мы прикрыли Ленинград. Все выдержали и выстояли. Здесь установлены были сотни мин. Подорвались сотни вражеских танков на них. Очень тяжело все высказать. Надо унаследовать традиции.
Поэтесса прочла собственное стихотворение:
– Кровь в нас, русских, красная течет, чтобы миру мир сберечь…
Что-то в этом роде. Извинилась за то, что, может быть, не очень оно литературное.
Председатель совета ветеранов пожелал всем всего доброго.
Затем была минута молчания. И воинская часть, которая ухаживала за могилами, награждала почетными грамотами ветеранов войны.
Катя досказала, что у них в прежней коммуналке начались с того, что вот Славиной девочке соседской повезло; для нее все ничто: платье – не платье и брюки – не брюки, и туфли – не туфли, совсем же ничто. Она с мужем, должностным лицом, пять лет или больше, прожила в Берлине. А родители ее – из тех обеспеченных, состоятельных, что для любимой доченьки подарок, скажем, меньше, чем импортные лаковые сапоги с чулками за сто или больше рублей из-под полы, у них не существует даже. Всегда она в чем-то новом, без устали шибает всех нарядами своими. Но хотя бы рубль попроси у ней взаймы – ни за что не даст, шалишь: за душою нет. Не сразу и поймешь, что это за человек такой.
– А поймешь – толку что? – сказала Нина Павловна. – Одни огорчения. Вы послушайте – я расскажу, отчего болела моя мать только что, на той неделе. У нас, в ленинградской квартире коммунальной, где она живет уже с тридцать первого года, умерла давняя соседка, Любовь Егоровна, пенсионерка, которая пережила здесь вместе с ней и еще одной соседкой, Марией Яковлевной, сухонькой, подвижной и сейчас, как сверчок, всю блокаду. Дело в том, что последние годы Любовь Егоровна, эта очень несчастная с виду женщина, вела замкнутый, одинокий образ жизни: рослый русый сын ее, удивительно положительный и практичный смолоду Володя, как только отслужился в армии, так женился на своей чернявой Кате, с которой переписывался, и вскоре укатил с молодой женой в Сибирь на новостройку. Он матери оттуда помогал – регулярно деньги присылал, чем она и хвастала нам изредка – никаких же цельных разговоров у нас с ней о чем-нибудь другом не получалось отчего-то. После него близких у нее никого больше не было. Смерть пришла к ней неожиданно. Так что она умирала на руках моей матери и Марии Яковлевны, – они, трое, уже держались вместе с самой блокады – блокада их породнила. Сын поспел лишь на похороны. Прилетел с женой.
VII
– Знаете, ребята, я вам лучше расскажу одну тогдашнюю предновогоднюю историю, – оживился Костя Махалов. – Про абордаж на Черном море. В сорок третьем. В последнюю холодную ночь. Мы, морские пехотинцы, укрылись на берегу в большой землянке, перегороженной нарами; все толпились, согреваясь, вокруг топившейся печки-времянки, сделанной, как обычно, из железной немецкой бочки. Жорка только что притащил откуда-то какие-то грязные мазутные доски, чтобы ими истопить пожарче печку (дров в прибрежье не было). Кто-то поставил на нее в плоских трофейных котелках водицу, чтобы хоть сухарики размочить. И кто-то было вслух размечтался о каких-нибудь подарочках в эту ночь.
Но подарочки-то немцы, не унимаясь, с неба постоянно сыпали – налетали бомбардировщики да хищные истребители – «Мессершмитты» рыскали. А по морю носились, летали немецкие катера и баржи самоходные.