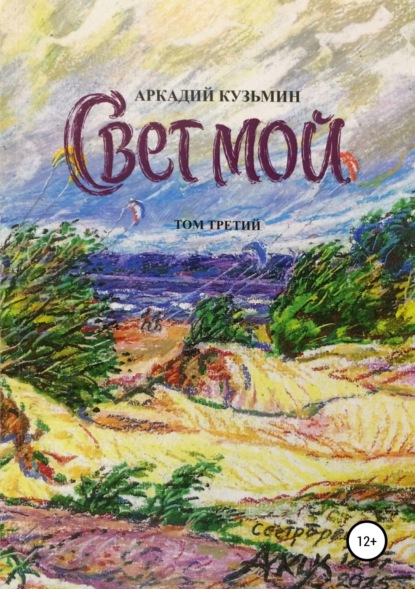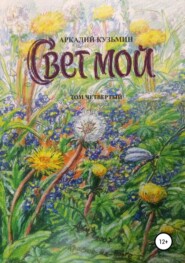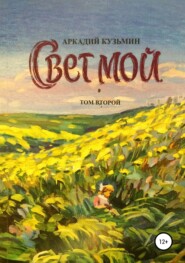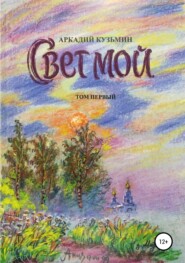По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет мой. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Значит, жуют съедобные? Может быть, ваши?
– Наших здесь нет. – Редактор не был склонен шутить. – Нас вон через улицу издательство и журнал печатают.
– А те редакторы у вас издаются?
– Ну, бывает. Кто может. Больше негде.
– Тогда за счет каких же повестей тараканы размножились?
– Наши девочки харчевно развели. В тумбочках – печенье… Впору так и крысам завестись…
– Ну, крыса-то тут вряд ли проскочит… Не гоголевские, чай, времена…
– Ой, а как же быть с цветами? – опять сказал худощавый редактор, воззрясь на цветы, росшие в стоявших на подоконнике горшочках.
– Оставим так, – уверенно сказал Олег Матвеевич. – Что мы можем?.. Да, собственно, они и не окно в природу, а так… какая-то зыбкая недоросль…
Кашин аж простонал от столь кощунственных слов.
– Авось, и выживут, не терзайтесь зря, – смягчился Олег Матвеевич. – Вот вы же, надеюсь, не погибнете от нашей рецензии?.. Так и они…
– Напротив, скажу: вы влили в меня бальзам…
Зазвонил телефон. И утешитель долго-долго, удлиняя скуку, наговаривал в трубку разные разности. В общем, показывал знакомым свою растворимость среди обычных людских забот, а главное, не бездействие и вес. Его умственная машина работала, по-видимому, без сбоев и сомнений, и это-то пугало. Вроде бы совершенно нормально говорил он нормальные вещи. Так отчего же у нормального Кашина, каким он считал себя, было ощущение, что его, как просителя, здесь оболгали и, хуже того, обокрали. Выкрали у него выношенную им под самым сердцем правду и куда-то дели. Хотелось сжаться в маленький комочек и тихо выскользнуть отсюда.
Наконец, наговорившись, редактор вроде бы вспомнил:
– Ах, извини, у меня тут автор еще сидит. Отпущу его. – И, положив телефонную трубку на аппарат, бисерно расписался в низу напечатанной на машинке казенной бумаги. Для какого-то черта пододвинул ее к посетителю, заслонился ею: – Вам! На память. Заберите рукопись.
Вставший с готовностью со стула Кашин не стерпел – вновь боднулся:
– Отчего же все-таки у нас сегодня нет редакторов Некрасовых, Короленко?
– Не волнуйтесь, им было проще, – ответствовал охотней собеседник за столом. – Тогда не было плана. А теперь все писатели пишут одинаково, обстругано, что не отличишь даже на просвет рентгеновский, кто писатель, а кто нет. Крупные-то писатели все сливки сняли в лобовом решении вопроса, а мы теперь копаем и копаем вглубь… Нам – потяжелей. А вы, простите, еще не дотянули до этого уровня… – Он был рад тому, что выпроваживал правдолюбца.
Кашин, усмехнувшись над своим былым заблуждением, даже было вдохновился снова. Он по-человечески почуял свеженькую тему для короткого рассказа. Только ведь это тоже не смешное. И там, через улицу, еще скажут: нетипично для наших устремленных дней. Где вы видели и слышали подобное? Все сомнительно! И тогда опять-тю-тю! – не одолеть с первой же попытки высокую издательскую высоту…
XII
Антон понимал: он, естественно, не осчастливил Олю, отступницу, ни себя тем, что не удержал ее естественных чувств к себе, если только они такие какие-то успели возникнуть у нее к нему в сердце – не являлись никакой загадкой.
Ведь именно она недвусмысленно инициировала их расставание друг с другом и открыто, не таясь, упрямствовала в этом, чему он уже и не воспрепятствовал нисколько. По здравому разумению. Было ни к чему воспрепятствовать. За ней был этот непростой и неприятный выбор. С оговорками. И она шагнула прочь от него, Антона, с уверенностью.
В общем его переживанье, а следственно, и покровительство над ней закончилось, обязанности сняты морально; он как бы лишился прав на опеканье ее, все было понятно и неоспоримо; но изначальная несправедливость – еще одна по отношению к нему, не причинившего никому зла, не позволяло ему в душе смириться с этим. Ведь поклонник обхаживал ее упорно, пользуясь ее зависимостью от него.
Не сразу, но как-то Ольга даже восхищенно призналась:
– Меня так хорошо встречают здесь, в училище. Даже пальто мне завуч подает.
После этого хвасталась удивленно:
– Завуч мне руки целует!
Потом перестала восхищаться. А однажды уже дядя ее, Александр Петрович, спросил прямо:
– Оленька, с каким-то ты полковником прогуливалась? Я видел тебя…
Она фыркнула, не ответила.
Значит, она его, Антона, совсем обманывала, говоря, что сегодня едет с ребятами на экскурсию, а встречалась с делягой-ухажером… Ничего пока ему не говорила об этом, таилась. До поры – до времени. Проявляла природную изворотливость. Не хотела огорчать?
Он не был этим раздавлен, унижен, лишь раздосадован из-за такого ее поступка и бесчестного дельца, и хотелось тому в рожу плюнуть. Был урон чести.
И вот случай такой представился ему.
В ту памятную белую ночь – при последнем свидании с Олей – Антон с болью сердечной почувствовал, что уж никак-никак не вправе ее удерживать своей любовью, ставшей, может быть, просто пресно – надоедливой для нее до ужаса, никакой иной (он и нечто подобное не исключал – не заблуждался в своих мужских чарах, отнюдь), и что ее явная решимость отдалиться от него, совсем отдалиться, была у нее однозначно мотивированной, желанной и, видно, так выношенной ею. Сердцу ведь не закажешь… Хотя на ее челе следов никакого стыдливого раскаяния или смущения внешне и не наблюдалось тут. Была обычная всеобычность. Даже напротив вроде бы: она губки надула, готовая, должно быть, подраться, если что, дать отпор; оттого, что ей приходилось еще, возможно, объясняться в чем-то сокровенно-необъяснимым, невозможном. Каково-то тогда! Однако человека стало совсем-совсем не узнать! Даже не поверилось вдруг тому.
Причем что примечательно: в этом решении Оли проявилась не столько ее хваткая девичья смекалистость, сколько, наверное, пришедшая рассудительная трезвость взрослеющей женщины, в которую она, Оля, осознанно превращалась в завидном нетерпении – к изумлению Антона, лишь сожалеющего теперь о том, но не в силах уже тому воспрепятствовать ничем. Все! Каюк заблуждению!
И вот подобное превращение позволяло Оле быть с ним, с Антоном, неискренной, а значит, испорченной в чем-то натурой в ее метаниях-исканиях основательного мужского покровителя. Что делать, мир таков. Спотыкающийся. И хромающий. Но он безжалостен. По прихоти людской.
Как же мы вольны обманываться в своих ангелах и снах!
Кстати причем Антон даже не завидовал своему сопернику – было нечего завидовать – двухметровому тяжеловесу, видному спортсмену и завучу, как позже выяснилось. Вся ирония измены заключалась в том, что Антон, не зная ничего о таком человеке, направил Олю, только что получившей диплом учителя, в то училище, в котором работал именно тот, ставший вскоре ее новым единственным другом.
Однако Кашин раз в промозглый осенний вечер на глянцевой панели на Петроградской стороне неожиданно столкнулся среди суетной толпы именно с ним и шествующей рядом Олей. Столкнулся и не смог вытерпеть и не сказать чего-то соответствующего сему нелицеприятному случаю. Завелся с оборота, что говорится, и не смог уж мирно обойти их и разойтись.
Он задержал этого супостата тяжеловеса и бесстрашно и страстно втолковывал ему, что тот, вводя в заблуждение малую беззащитную особу, не способную еще защищаться, а способную лишь пасть перед пороком и погасить так свет своих очей и вовлекая в свое негодяйство педагогическое. Вот ведь у нее уже не будет больше гореть истинным светом глаза и жить душа. Кругом были люди, спешившие по своим делам. В то время как Оля суетилась вокруг их, мешая, боясь того, что может возникнуть драка. Супостат защищался на словах. Но Антон видел: смешно! Он воспитывал, значит, педагога. И тот, богатырь почему-то боялся его, как вор, укравший нечто или некое произведение искусства, не имевшего цену.
Значит, если так, он прав в своих справедливых, обоснованных претензиях к ним, обоим. И ему стало их жаль и не так уж интересно все, что может значит их сближение. Все было ясно, просто и глупо; какое-то извращение понятий, по его представлению. В этом как будто сломался сам тон отношений и понимания сути судьбы.
Да, он проиграл завидному сопернику баловню судьбы, у которого в ней все сложилось ладно, устроено.
За Антоном была какая ни на есть правда, было это понятно всем, и это определяло суть его претензий в выговоре к поведению лощеного интеллигента и спортсмена, уже избалованного вниманием публики и устроенного в жизни. И он, Антон, чувствовал себя нравственно выше и поэтому победителем, и мог сражаться за свои идеалы. И его соперники, он видел и чувствовал, понимали это и тушевались перед ним. С таких-то позиций он мог отчитать кого угодно.
Да, фигурально выражаясь, его размолвка с Олей вступила точно в фазу невозврата. И он уже не хотел возврата ее любви. Она не могла быть прежней. Никак.
При этом он вспомнил Пошутина из Армавира, того самого старшину, из-за которого его вызывали в Большой Дом на допрос: тот раз после шумной драки устыжал своего товарища, сидя внизу двухъярусной койки в кублике рядом с ним, в котором силища перла через край:
– Пойми, Паша, у тебя сила огромная, а умишка мало, вот и махаешь кулаками позря. Бестолку. Поступки все решают. И слово.
Антон помнил и жгучие зеленоватые глаза друга Махалова, смотревшие с ненавистью на Олю на Менделеевской линии, когда та пришла и стояла перед Антоном со стопкой книг, которые привезла ему ради встречи, и что-то старалась успеть сказать ему в этом мучительном свидании.
XIII
Июльский понедельник не принес в издательство спокойствия. Просто еще не успели вскипеть страсти. Но затишье подчас обманчиво. И действительно: вскоре дверь в аудиторию – производственный отдел – распахнулась. На пороге появилась седеющая прямая сухощавая исполнительная секретарша в черном костюме и с нарумяненными слегка щеками, недремлющее око директора, как справедливо острил кто-то, и кратко бросила присутствующим:
– К начальству! – и бесстрастно повернулась, чтобы уйти.