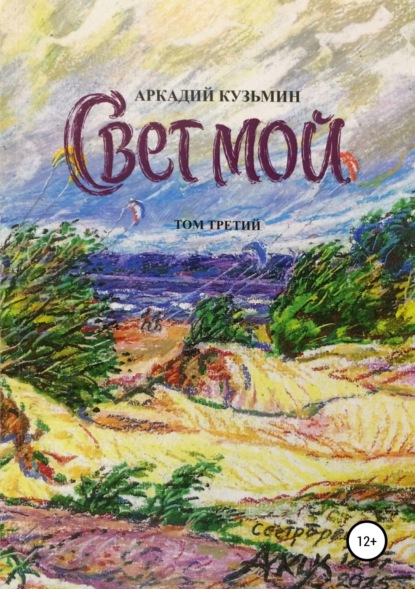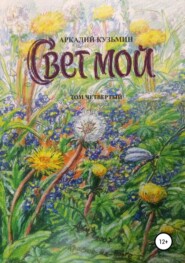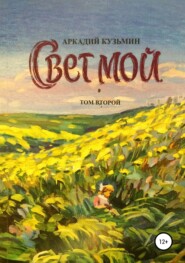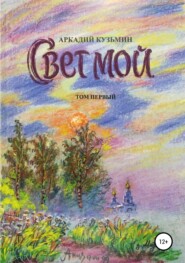По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет мой. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Справедливо, что он, выпускающий редактор концертирующих артистов (с университетским дипломом), в неординарных суждениях выделялся из всех дискутантов, или, точнее, оппонентов, тем, что не знал и не замечал вокруг себя и вообще на обозримом горизонте никаких неоспоримых авторитетов. Настолько цепко, категорично, пунктуально он обговаривал предмет спора, если не разговора. Хотя внешне он – полная противоположность – обычно был замедлен во всем и реакция на действия окружающих людей у него была неспешна, неестественно спокойна. Как у марсианина. Что Антону не нравилось сегодня.
Общество у Ивашевых собралось обычное, непрезентабельное, уже составившееся; все не понаслышке знали друг друга и о друг друге мелкие частности. Кроме Махалова, Птушкина, его жены Натальи, Меркулова, бородатого Лимонова с улыбающейся женой Катей, не то полярников, не то геологов, носившихся летом на байдарках по быстрым рекам, спокойной полноватой судьи Маликовой и тылового полковника Савина и тоже с женой Агнессой, которых Антон уже знал и видел, были здесь еще посланец из Магадана – веселый и резвый промышленник Саркисян, доставлявший туда какие-то коммерческие грузы, шофер Кольцов с женой Оксаной, токарь Хвостиков и другие гости.
Рита набросила зачем-то шаль на плечи, откинулась в кресле.
– Жена соседа горюет: «Мой муж туберкулез схватил! В больницу кладут!» Не успела она договорить это, как тот, страшно пьяный, вламывается к нам на кухню и, подобно гоголевскому Ноздреву, кричит: «Ура, товарищи!» Нет, с нашим народом не соскучишься, ничего с ним не поделаешь. Что ему разоблачение «культа личности Сталина»!
– А я стала свидетельницей следующего происшествия: – сказала Никишина. – Пьяный, упав, разбил нос и лежит. Собралась толпа, подошел к нему милиционер и спрашивает: «Ты запомнил номер машины, которая сбила тебя, гражданин?» – Вытащил блокнот. Отвечает тот: «Ноль пять двадцать три двенадцать?» – «Что-то такого шестизначного номера нет. Ну, а буква какая?» «Это он говорит, верней, намекает: его сбила поллитра за двадцать три рубля двенадцать копеек», – подсказал кто-то из толпы. И толпа засмеялась. Ну, разумеется, забрали остряка в вытрезвиловку. Сорок рублей все удовольствия: холодный душ, ванная, постель с двумя простынями.
– Лучше нашей жизни нет ни в мире, ни в Сибири.
– Так, мои друзья-славяне, как когда-то говорили.
– В прошлый сенокос я приехал в деревню к брату Николаю, – сказал Сивков. – Он почти заканчивал крыть ток. Я решил ему помочь. Просто так. По-братски. А работали они на пару с Никиткой, вышедшим уже на пенсию. И не так давно он, Никитка, развелся с женой. Вот мужик здоровый.
– Постой… Из-за чего развелся?
– Все из-за нее, горькой. Любит заложить. И с бабами накуролесил так, что все повыгнали его. И тогда он до самого октября в стоге сена жил. Отшельником. Вытаскал себе вроде конурки в середине стога и залезал туда спать. Стог стоял у самого леса. Да опять же бабы его заметили и выкурили оттуда.
– И куда ж он подался после этого?
– В город перебрался. В нем и подзаработать легче. Вот и водку пьет, как святую воду – и такой еще здоровый. Знаете, я поднял по лестнице на крышу лист шифера, поднимаюсь с ним выше, чтобы передать его на вытянутых руках. Сам-то я крепкий, пока молодой, считаюсь силачом; а не могу держаться: ветер, того и гляди, сбросит меня с лестницы вместе с шиферным листом. А вдвоем поднимать здесь несподручно: узко. А Никитка хоть бы что: берет эти листы и идет наверх по лестнице легко, по-королевски, как танцует. Вот вам и шестьдесят лет с хвостиком.
– Тут, верно, особая сноровка нужна, как лист держать против ветра.
– Да нет никакой. Просто силища в нем. Он же всю жизнь работал-орудовал кувалдой. Бицепсы у него – будь здоров! Так что я кровать предпочитаю этому сену. Я пока еще не спился – не железное здоровье у меня.
– Ну да, потому и спим до обеда, а судачим про соседа, что не пришел да не помог.
Зоя подсела к Антону с вопросом. Он сразу понял, в чем дело. Зоя была несравненна, царственно-женственна: статная с красивым чистым лицом, карие глубокие глаза, прямые русые длинные волосы, утонченные руки, маленькая ножка-ступня. Как анекдот, она ныне рассказывала об одном случае. Она и Геннадий куда-то шли по улице, поднимались по гранитным ступенькам, торопясь; она – впереди, он – немного отстал. В белой шубке она была как произведение искусства, само совершенство. И какой-то подвыпивший прохожий охнул при виде этого явления и тут же не преминул обратиться к Геннадию, как к ее хозяину, с вопросом:
– Слушай, наверное, дорого она тебе обходится – такая красавица, а?
И Геннадий на ходу небрежно-гордо ответил:
– Других, дорогой, не держим.
– И как только Белов – неспециалист, не полиграфист, – беспокоилась Зоя, – мог согласиться стать начальником производственного отдела и быть посмешищем всего издательства? Сидел в экспедиции на тихом месте, а тут…
– Но, кажется, он уходит на работу начальника отдела кадров. Был у меня с ним разговор вчера. И спрашивал у меня совета, – успокоил ее Антон.
Геннадий сказал, что в иных учреждениях кадровик – такая величина, что сам директор ходит к нему на поклон, особенно, если это в закрытом институте.
– Да, кто как поставит себя на таком злачном месте, – вставил Антон. – Какие полномочия выжмет…
– Подождите, – вклинился в разговор опять Меркулов, – я проиллюстрирую вам охотно… Один мой приятель работает в подобном заведении. Сам начальник управления там кланяется управдому – тьфу! – кадровику. А вы говорите: «Культ личности…» Раз была у них коллективная пьянка под какой-то общенародный праздник. И мой приятель, уходя в позднь домой, надел по ошибке дорогое пальто этого кадрового работника, толстяка – чинуши. Пальто с бобриковым воротником. И увидел, что допустил оплошность лишь утром следующего – выходного дня. Давай звонить в родной институт – там всегда есть дежурство и дежурные. Тем он объяснил, что произошло, и ему назвали домашний телефон кадровика. Ну, позвонил ему домой. Схватил такси и немедля помчался в Ленинград из Ломоносова. Представляете… А кадробойца после пьянки, обнаружив вместо своего пальто, чью-то шкуру, естественно, сразу протрезвел и захватил ее с собой домой, как вещественное доказательство виновного в краже. Едва приятель мой, примчавшись и запыхавшись, позвонил у начальственного порога квартиры, как крепкие руки, дрожа, приоткрыли дверь и, не впустив его даже на порог, выдернули у него из рук злосчастное пальто, а ему ловко вышвырнули его шкуру и мгновенно и молча захлопнули дверь. После этого недоразумения прошло несколько лет. Всех товарищей приятеля повышали по нескольку раз. А его – ни разу. И лишали премий и престижных командировок.
– Это ж гоголевский сюжет! – воскликнул Антон. – В чистом виде.
– Да, еще бы! – сказал Геннадий. – Ну, а на лето ваши творческие планы?
Махалов собрался в Измаил на встречу с друзьями – морской пехотой Дунайской флотилии. Кто собирался на дачу, кто – под Ригу, кто пока никуда; Антон сказал, что поедет на Волгу к братьям и матери.
– Ты все пишешь этюды? – Спросил у него Костя.
– Стараюсь.
– По-моему, это уже нам ни к чему. Классика уходит, отмирает.
– Оставим эту спорную тему. Еще не убыль наших дней.
– Ты веришь?
– Стараюсь.
– Я хочу тебе потом рассказать об одной военной истории, – признался Махалов, как показалось Антону, грустным голосом. И это его расстроило несколько, что он и про свое огорчение забыл на какие-то минуты.
– Ну, ты, видать, пороха не нюхал, пардон, – сказал Лимонов.
– Что ты, Михайлыч, – сорвался речивый Махалов. – Он-то на штукатурке Рейхстага автограф поставил в сорок пятом.
– Ого! Прости, кореш! Прости! Погорячился я…
Да, укромный дом Ивашевых – однофлигельный, двухоконный, что ютился в закутке на Дворянской улице, – был хлебосольным, гостеприимным, чем приваживал к себе многих мыслящих людей. Он как бы находился близко на пути у всех благорасположенных друг к другу устоявшихся граждан. И точно манил и притягивал магнитом друзей, хотя здесь ничего сверхобычного не происходило, но сюда, в квартирку Ивашевых, в их общество тянулись и приходили самые разные по своим интересам и занятиям давние и новые знакомые. Так, и Антон (из их числа) тут уже познакомился и с любезным бородатым Лимоновым и его улыбчивой женой Катей (заядлых путешественников), которых впервые увидал в ложе Мариинки позади себя в марте 1952 года на балете «Лебединое озеро», и с Сивковым, шофером-техником из института Арктики и Антарктики, уже выезжавший в экспозицию на пятый континент и водивший там вездеход по ледовым трещинам, и с другими незнакомцами. С тем же бухгалтером Саркисяном, наезжавшим из Магадана. Общение всех собравшихся между собой превращало их в какой-то привычный уже коллектив. Тут был особый разговор.
Однако все происходящее сейчас Кашина не трогало ничуть – в душе его не было спокойствия (оно не приходило). Напротив, он, находясь среди гостей и стараясь быть более естественным (чтоб не выдать себя), все острее чувствовал какую-то неестественность своего положения (после разрыва с Оленькой); он как-то отчетливо-осознаннее видел впервые – через свое драматичное настроение – бессловесное непонимание в толпе истинного состояния души; взаимные словесные упражнения нисколько не утоляли жажду успокоения, они лишь усиливали чувство, что потерянное нельзя заменить ничем, никакой сменой обстановки. И настроя-то душевного не будет, пока сам с собой не разберешься досконально во всем, это ясно, как божий день. И хотя он в душе давным-давно уже смирился с потерей любимой девушки, ему хотелось все же побыть теперь одному (наверное, просто профилактики ради).
Главное же, для Антона теперь не было ни в чем какого-то внутреннего величия, лада, что чувствовал он, например, в картине Рембрандта «Возвращение блудного сына», а еще сильнее – в «Троице» Рублева. В мире, по его представлению, нет полотна пронзительней ее по простоте своей и величию духа. Да, именно: сейчас у него, Антона, он понимал, не было присутствия чего-то незаменимого, непридуманного. О той же святыне русской – «Троицы» Пчелкин, его учитель, говорил: «В композиции линия певучая ведет, как и в древнерусских храмах, и на горочке дубок жмется. Глядишь на картину – и слышишь, как шумит под ветерком спеющая рожь».
«Да, и мне покойней как-то, когда слышу, как за окном нынешнего моего жилища полощется по ночам на дереве листва, – подумал Антон невольно, когда, приехав, пришел в квартиру, в уголок – конуру, раскатал на топчане, как солдатскую шинель, постель, под образами иконными. – Она будто разговаривает со мной, напоминает мне о чем-то вечном. «Я с тобой. И ты со мной…»
И странно вспомнилась ему опять одна история несправедливости, раз подсмотренная им.
В то утро молодой мужчина, возраста примерно Антона, был, казалось, чем-то несколько озабочен и смущен, он, солидный-таки, деловой человек, важно готовый к несению своей ответственной службы, в светлом плаще и новенькой фетровой шляпе; потому-то он и вошел со своим ребенком, – он его придерживал рукой, – не в переднюю, а в заднюю дверь автобуса и встал с ним там, на нижней площадке, а не прошел вперед и не сел, хоть и были свободные места, несмотря на девятый час майского утра, когда многие еще ехали на работу.
Но тихо, почти неслышно (из-за шумного движения автобуса) скулившего ребенка еще не было Антону видно из-за стенки, поставленной за последним креслом, – лишь виднелась там светловолосая макушка; не было видно до тех пор, пока отец не вывел его за ручонку из этого закутка, не поднял в салон и не подвел к тому последнему креслу с желтой кожаной обивкой, что было за билетной кассой. Тогда стало видно, что это была очень худенькая, бледненькая и вся заплаканная девочка лет пяти, если не меньше, в розоватом пальтишке в горошек, в белом платьице, в полуспущенных коричневых чулках и сандалиях. В ручонке она держала большое, надкусанное со всех сторон, яблоко сорта «джанатан» и какую-то яркую тряпичную куклу. И скулила непрестанно, как заведенная на эту одну ноту, способную вывести из себя кого хочешь и одновременно разжалобить любое сердце. Она скулила уже глубоко несчастно, трагически даже. Господи! Вся скорбь мира была здесь, в ее глазах! Из-за какого-то пустяшного, наверно, осложнения с отцом, непреклонным, отчужденным перед светом всем.
Дальше больше.
Отец поднял дочь над креслом – усадить ее хотел – и опустил в сиденье; только она, гибкая, выгнулась назад и, упрямо опускаясь, проскользнуло мимо кресла. Он ее опять поднял, видимо, видимо еще не понимая хорошенько, в чем же дело, – и опять все повторилось заново в точности. И так еще опять. Она громче всхлипнула, все глотала горючие слезы. И тогда он, выведенный из себя, с силой схватил ее и, не дав ей теперь распрямиться, буквально вдавил ее в кресло.
Он весь побагровел. И прочь отошел поспешно. К пыльному окну отвернулся, журясь на ослепленный солнцем весенний Суворовский проспект, кипя в душе и, очевидно, проклиная этот мерзкий, слабый и капризный женский род, из-за которого он унижался так, унижался на людях.
Это же ужасно!
Но только Антон снова взглянул в лицо девочки, какое-то прозрачно-бестелесное, в ее исплаканно-скорбные глаза, как мигом вспыхнула в его сердце пронзительная жалость к ней. И показался ему отец со своей грубой физической силой, примененной в споре с этим хрупким, незащищенным созданием, упрямо отстаивавшим свою правоту, свои желания, – показался ему варваром, чудовищем. Вместо того, чтобы действовать вполне с умом и разумной логикой, без боязни унизиться и быть осмеянным обществом. В уважении к самой малой деточке.
Она-то, бедненькая, уже больше ничему и никому не противилась, маленькая виновница всего случившегося, жалостно тряслась, впечатанная в то массивное для нее кресло; подвывала еще горше и несчастней, позабыв про надкусанное яблоко, про куклу, решительно про все на этом белом свете. Так длилось две большие остановки: автобус был скорый. Лишь разок скользнули из-под фетровой шляпы по Антону сощуренно-сердитые глаза мужчины. А потом их владелец вновь приблизился к дочери и, сдернув ее за ручонку с сиденья кресла, подвел ее к задней двери, – приготовился с ней выйти.