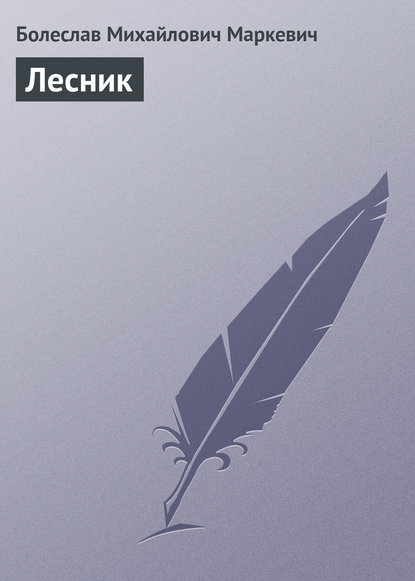По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лесник
Год написания книги
1880
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я, действительно, не имею чести… пробормотал он, подымая и останавливая на ней неулыбавшиеся глаза.
Это была белокурая, довольно свежая «барышня» (барыпшя была она по всем признакам) со вздернутым, слегка румяным носиком, алыми губами и широким развитием плечей и груди, при чрезвычайно тонком и длинном стане («В талии комар, а в плечах Волга – и даже в весеннем разливе», сказал себе Коверзнев, внутренно улыбнувшись). В выражении лица её, в её движениях и тоне речи была какая-то ребяческая смесь прирожденного добродушие и напускной самоуверенности. Она, прищурившись, чуть не дерзко, вся при этом невольно краснея, глядела на Валентина Алексеевича, чрезвычайно озабоченная в глубине души тем впечатлением, какое могла произвести выказанная ею сейчас «образованность» на этого «русского Ливингстона и Стенли».
Он, в свою очередь, производил на нее несколько внушительное впечатление. Но она никак не хотела поддаться этому «унизительному» чувству и продолжала еще с большею развязностью:
– Ну, «не имеете чести», так отгадайте!.. Капитан, ни слова! Не умели сказать вовремя, теперь молчите! Я хочу, чтоб monsieur Коверзнев отгадал… Ну, хоть собственное имя отгадайте!
– Я, право, не могу… молвил Валентин Алексеевич, как бы бессознательно хмурясь.
– Очень трудно отгадать, это правда, у меня премудреное имя. Ну, так вот: Инна, Пинна, Римма, три девицы, три великомученицы и три Римлянки – выбирайте!
Он, молча, только руками развел.
– Пинна Афанасьевна Левентюк, поспешил придти ему на помощь Переслегин. Ему было видимо не по себе от этого разговора и он с какою-то тайною тревогой переводил глаза с девушки на Коверзнева и обратно.
– Очень рад, проговорил Коверзнев, поспешно приподнял еще раз шляпу и разом двинулся с места.
– Куда же это вы? воскликнула девушка, – теперь не до охоти, а домой скорей надо: видите, что оттуда несет? И она, подобрав возжи, кивнула подбородком вверх.
Он моментально обернулся.
Уже охватившая полнеба, ползла с востока поверх лесных вершин, словно норовя задеть их своими темными краями, огромная темно-фиолетовая туча.
– Страшнеющая гроза будет! вскинулся вдруг испуганно капитан, – только-только до лесника в Хомяках доехать!
– И напиться у него вашего чаю? вспомнил Коверзнев: – спасибо вам за это, кстати, Иван Николаич! сказал он, ласково улыбаясь радостно вспыхнувшему от этих слов Переслегину.
– Садитесь, monsieur, я вас подвезу! поспешила предложить Пинна Афанасьевна.
Предстоявший ливень не представлял ничего заманчивого для Валентина Алексеича, но он, с другой стороны, не чувствовал себя в достаточно хорошем настроении духа, чтобы слушать дальнейшую болтовню «развитой» девицы, как о ней выражался Софрон Артемьич Барабаш.
– Очень вам благодарен, сказал он с учтивой улыбкой, – не долги эти летния грозы. Я собрался в Крусаново, – дойду, авось не растаю.
– Зальет-с… дорогу, Валентин Алексеич, глядя ему с умоляющим видом в глаза, возразил капитан.
Тот пожал плечами.
– Дело бывалое, Иван Николаич!.. В Брусанове опять сторожка и лесник, должно быть, – и прямо по просеке теперь? спросил он.
– На версту еще прямо пройдет, а там дальше, изволите знать, трясина…
– Ведьмин Лог, знаю!
– Так точно-с! Так мимо, под прямым углом, мы вправо повели; на прежнюю дорогу выходит, а с неё опять просека до полянки, где тамошнего лесника изба. Версты четыре отсюда не менее идти надо дотоле. Позвольте доложить вам, Валентин Алексеич, заговорил вдруг капитан прерывающимся от волнения голосом, – не советую вам… Пожалуй сейчас зги не увидать будет, и самое тут место ненадежное, болота кругом бездонныя… Не дай Бог!..
– С детства знаю я эти места, Иван Николаич, не собьюсь, молвил Коверзнев.
– Так вы решительно отказываетесь от моего предложения довезти вас? спросила с заметною досадою Пинна Афанасьевна.
– Искренно благодарю вас, отвечал он, – но упрямство – мой порок…
– Вольному воля! Вы находитесь, очевидно, под влиянием аффекта, но я не желаю попасть под ливень по-вашему примеру… едемте скорее, Иван Николаич.
– Позвольте, Валентин Алексеич, предложил тот, вскарабкиваясь поспешно на лошадь, – я вот их сейчас до Хомяков довезу и вернусь к вам с экипажем. Не дай Бог, ночь, гроза, опасно…
– А я знаете, что вам скажу, перебила его вдруг девушка, оборачиваясь на Коверзнева из своей нетычанки, – все это старобарские капризы!
Его так и покоробило от этого слова. Он холодно, коротко поклонился ей, свистнул своего сеттера и, не ответив ни единым словом, быстро двинулся с места.
– А впрочем, не успев отойти и пяти шагов, сказал он себе усмехаясь, – оно и так пожалуй!..
И он как бы невольно оглянулся. Но тележка с подпрыгивавшим на седле за нею капитаном быстро удалились в сторону Хомяков.
VIII
Шум колес и конский топот уже успели смолкнуть. Коверзнев быстрым, гимнастическим шагом подвигался вперед, внимательно, привычным к наблюдению природы взором, оглядывая от времени до времени темневшую окрестность. Прямо против него, на западе, горело еще, сквозя меж леса, багряное полымя заката, но все остальное небо уже заволакивал мрак и ненастье. Все ниже и ниже опускались тучи, вершины дерев уже исчезли в клубах серого тумана и, охваченные внезапно его влажным холодом, испуганно слетали с них вороны и с зловещим, карканьем реяли растерянно в воздухе… Глухой, но уже грозный, грохот несся из какой-то близкой дали; зверь не ревел еще, – он сдержанно рычал и готовился…
«Собирается не на шутку, кажись», говорил себе Валентин Алексеевич; – «сухим до Крусанова не дойти видно никак»… Ему вспомнились Америка, Техас, страшная гроза, выдержанная им на берегах Рио-Браво. Его тогда спас спутник его, мексиканец, от верной смерти, оттащив своевременно из-под ветвей обрушившегося под ударами грома платана, вблизи которого стояли они…
– Don't be frightened, Jim![1 - Не бойся, Джим.] ласково промолвил он, останавливаясь на миг и наклоняясь к своей собаке, в каком-то странном испуге жавшейся все время на-ходу к его коленке; – мы с тобой здесь не под тропиками…
Он успел уже пройти остальную версту той прямой линии просеки, которая, как сообщено ему было капитаном, постепенным наклоном спускалась до берега Ведьмина Лога, круто сворачивала затем вправо и вдоль того же берега шла на соединение с большою дорогою, уже хорошо знакомою Валентину Алексеевичу. Он повернул по ней, как было указано, едва уже различая дорогу пред собою. Лес в этом месте заметно редел и понижался. Близость болота, мимо которого шел путь Коверзнева, давала себя чувствовать умягчением почвы, в которую ноги его уходили инде как в какое-то тесто.
В памяти его пронеслись давнишние, слышанные им в детстве рассказы об этом болоте. Это было, действительно, скверное место, недаром носившее прозвище, данное ему суеверным страхом окрестного народа. Вечно цветущее на поверхности какою-то коварно-изумрудною зеленью, оно не выпускало живым никого, имевшего несчастье попасть в его засасывающую бездну. Тянулось оно версты на три в окружности. Противоположный берег подымался над ним довольно высоким крутым скатом, и с этого ската однажды, на памяти Валентина Алексеевича, сорвался высоко наложенный воз сена и весь, с лошадью и парубком-возчиком, сидевшим на нем, ухнул и навеки исчез в этой зеленой хляби… Он помнил еще бледное лицо, с каким воспитатель его, Фокс, вернувшись с верховой прогулки, рассказывал ему, как, проезжая мимо Ведьмина Лога, скакун его увяз внезапно задними ногами в трясине и он едва успел вытащить его оттуда, и как, «в ту минуту, когда он почувствовал, что круп Блекбуля исчезает под ним, и сам он валится назад и вот сейчас, сейчас туда опрокинется вместе с лошадью, он испытал такой смертный страх („anguish of death“), какой, думал он до сих пор в своей гордости, он неспособен был когда либо испытывать»… Старые деревенские бабуси пугали внучат своих «Мавками», увлекающими в осеннюю ночь путников в это свое бездонное логовище…
Но мысль Коверзнева не хотела, да и не способна была останавливаться долго на этих представлениях. Не то видал он в своей, богатой всякими приключениями, жизни… Он шел все так же бодро вперед, среди обнимавшей его теперь уже со всех сторон темноты, держа обеими руками перед собою ружье на перевес, оберегая таким образом плечи свои и локти от толчка о какое-нибудь препятствие… Он не жалел, что не дал увезти себя от непогоды «этой девице». Во-первых, он издавна любил всякие необычные ощущения и «так называемые опасности», как привык он презрительно выражаться. А затем… Какими смешными словами, думал он, обзавелись они теперь бедные: «аффект», «регресс», «Огюст Конт», «Лассал»!.. И «пресерьезно, как точно орехи щелкают»…
Смех, вызванный в нем этим нежданно пришедшим ему в голову сравнением, готов был сорваться с его уст… и замер. Трескучий, оглушивший на несколько мгновений Коверзнева, громовой удар грянул, показалось ему, в трех шагах от него. Он отскочил невольно, невольно сжимая веки, опаленные жгучим пламенем разразившейся молнии; острый, нестерпимый запах серы охватил его обоняние, проникал в его горло; крупные дождевые капли зашлепали по его шляпе, по его спине…
И словно только и ждали они этого сигнала, – завыли, загудели, застонали кругом чудовищные голоса бури. Лес дрогнул весь и заскрипел под раздирающим стоном налетевшего на него, наклонившего, сломившего его разом, вихря. Треск лома и шлеп оземь обрушенных деревьев, удары грозы, следовавшие теперь один за другим с ужасающею быстротой, гул дождя, падавшего с небес уже не каплями, а непрерывною, сплошною пеленой, производили какое-то одуряющее, фантастическое впечатление. Словно какой-то стихийный дух, неистово мятежный, несся на гибель и разрушение всего Божьего мира. Едва-ли что либо подобное дано было видеть Коверзневу и «под тропиками». Но ему некогда было уже сравнивать, вспоминать, он и не в шутку был озабочен положением, в котором находился. Блеск молний слепил ему глаза, не давая ни времени, ни возможности рассмотреть окружающие предметы, сообразиться, найти исход… Идти прежним путем, прямо, представляло уже величайшую трудность: ветер сбивал его с ног и, сверх того, он с каждым лишним шагом чувствовал, как все более и более размякала под ним почва, как ступни его уходили все глубже в нее, – до того, что с большим трудом он мог вытаскивать уже их оттуда. Он попробовал повернуть назад, но это оказалось еще менее возможным: целые потоки неслись ему навстречу, заливали его ноги, подпирали под его колена. Он уже был мокр с головы до ног, мокр до костей; пронизывающие холодные брызги дождя хлестали его по лицу, текли за шею, резали ему веки… А вода между тем подымалась все выше и выше: вся масса непрерывного ливня стекалась, стремилась сюда, по наклону, в это нижайшее место лесной окраины Коверзнев ощущал её постепенный, растущий с каждым мгновением, подступ, – она уже доходила ему до пояса. «Унесет в болото», пронеслось у него в голове…
Мгновенный блеск ударившей еще раз молнии дал ему увидеть, что он стоит среди уже целого, безбрежного озера, из глубины которого подвигались стволы кое-каких жидких верб и ветел. С тревогою сказал он себе, что он уже не был в состоянии вспомнить направление исчезнувшей дороги, не мог разобрать, с какой стороны и куда шел он по ней четверть часа тому назад… «Глупо однако и неслыханно погибать от какого-нибудь летнего дождя!» проронил он тут же презрительно и злобно, – «зацепиться надо за какое-нибудь дерево и терпеливо дождаться конца грозы, а там засветлеет на небе»… Но в непроглядной теми, окружавшей его, при вихре и дожде, бившем ему в лицо, отыскать, это спасительное дерево было нелегко; а при этом он начинал коченеть от сырости и холода… «Jim, where yon?»[2 - Джим, где ты?] вспомнил он свою собаку. Слабый визг, показалось балентину Алексеевичу, ответил ему будто с недалекого от него расстояния. «Бедняжка отыскал тут чутьем какой-нибудь взлобок, на нем и спасается», подумал он – и направился, расплескивая перед собою воду руками, на этот визг… Но он вдруг почувствовал, что земля будто оборвалась под его ногами… Он попал в самый напор воды, – его сбило, подхватило и понесло.
Куда? Он не мог этого ни понять, ни предчувствовать. Какой-то гадливый ужас обнимал его при одной мысли… Но он боролся, плыл во мраке, в незримой, но ощущаемой им кипени бурливших волн, широко раскидывая руки, в чаянии ухватиться за ветви какого-нибудь дерева, мимо которого могло проносить его… такая ветка, действительно, попалась ему под пальцы. Он судорожно ухватился за нее, чувствуя при этом, что тело его, увлекаемое потовом, описывает около неё широкий полукруг и измеряя этим в мысли стремительную силу уносившего его течения. Он невольно рванул, подтягиваясь в нему, этот желанный якорь спасения… В пальцах его остались содранные его ногтями клейкия, узкия листья обломившейся, хрупкой вербины, – и, описав новый полукруг, он понесся дальше, гонимый потоком и ветром… И в это же время, на крылах того же ветра, среди бешеных звуков непогоды, явственно донесся до него голос, донеслось его имя: «Валентин Алексеич!»… «Это капитан… Это спасение, может быть», мелькнуло в голове его. Он попробовал крикнуть в ответ, заработал сильнее руками… Но плыть становилось ему теперь все труднее; течение, он чувствовал, теряло все более и более свою стремительность, – ноги его уже задевали почву, какая-то растительная склизь попадалась ему то-и-дело под руки… «Неужели»… «Aguish of death» – вспомнились внезапно слова его воспитателя, а с ними вся жизнь его, мать, лицей, пароход, увозивший его в Америку, берега Миссисипи, сверкающие глаза любимой им когда-то женщины, и развалины в Банаресе, и старый друг, англичанин, от которого получил вчера письмо, и сейчас, полчаса тому назад, эта встреченная им «Пинна Афанасьевна», говорившая об «аффекте» и «Лассале»… «Неужели»… повторил он замирая. Какие-то зеленые огни замелькали в его зрачках… «что же это»… Под ним была уже не вода, а какая-то жижа, и он уходил в нее. Он вскинулся последним порывом, бессознательно стараясь встать на ноги, – но встать уже было не на что! Он исчезал в бездонной хляби Ведьмина Лога…
IX
Софрон Артемьич Барабаш чуть не взвизгнул, когда, часу в восьмом утра, раскрыв глаза на скрып широко распахнувшейся двери его спальни, увидел пред собою капитана Переслегина, один вид которого говорил о каком-то невозможном, неслыханном несчастии. Он стоял пред управляющим в порванной, мокрой, покрытой каким-то зеленым илом одежде, с исковерканным лицом и раскрытыми, шевелящимися губами, из которых вместе с тем не исходило ни единого звука.
– Что такое, что случилось, Иван Николаич? забормотал Барабаш, заранее трясясь лихорадкою ужаса.
– Ва… Валентин А…лексе… начал – и не мог договорить тот.
– Барин! крикнул управляющий, вскакивая, как был в рубахе, с постели, – Господи! Где он?..
– Не… не знаю… Не нашли…
– Как не нашли? Что вы говорите, Иван Николаич?.. Мать Пресвятая Богородица, да и сами-то вы мало с ног не валитесь… Воды попейте, батюшка… или вот, погодите, для крепости… пользительно будет…