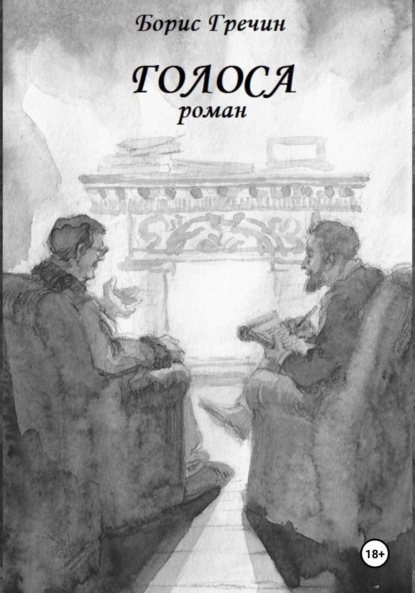По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Голоса
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Молчание.
НИКОЛАЙ. Я закурю, ты не возражаешь? (Отходит к окну. Несколько раз пытается поджечь армейской зажигалкой папиросу, потерпев неудачу, досадливо откладывает зажигалку в сторону.)
ЕЛИСАВЕТА (энергично). Ники, ты не можешь вечно прятаться за своё вежливое молчание! Этот человек – враг Церкви и твоей земли. Он – сладострастник, колдун и наверное, настоящий бес. Человек, которым играют бесы: бесовская марионетка. Всё, что ты делаешь, он мажет дёгтем своего греха. Он гадок! Я удивляюсь тому, как ты, такой чуткий к этим вещам, не видишь, что он просто гадок!
НИКОЛАЙ (вполоборота к ней). В нём, безусловно, есть несимпатичные черты, но кто из нас без греха? Ты преувеличиваешь. Это простой русский мужик, который набедокурит, а потом кается. В конце концов, он – часть народа, а у меня нет другого народа. «Он гадок», – говоришь ты, но я не могу позволить себе брезговать своим народом, это… тоже некрасиво. Знаешь, он искренен! Он мне сам показывал фотографию своего кутежа. Не думаю, что человек, который…
ЕЛИСАВЕТА (перебивает). Ничего не хочу знать о его фотографиях, но эти фотографии видишь не только ты с твоим великодушием. Их видят твои подданные. Если бы ты знал, что говорят о тебе, о нём и об Аликс! Мне стыдно произносить то, что говорят, и мне больно думать, что у людей могут быть такие мысли.
НИКОЛАЙ (пожимая плечами). Всё в руках Божьих. Про кого из нас не клеветали? Что я могу с этим поделать? Ты же знаешь, Элла, что даже тебя – даже тебя! – называют «гессенской ведьмой». И это после всего доброго, что ты совершила для них! Так они отблагодарили тебя после убийства дяди Сергея!
Молчание. Великая княгиня сидит молча, невидяще глядя прямо перед собой.
НИКОЛАЙ. Тётя Элла, я тебя огорчил, прости.
ЕЛИСАВЕТА. Я в отчаянии, Ники. Мне кажется, что мы летим в пропасть, а этот чёрт сидит на облучке и, как говорят, тянет свои лапы к поводьям. Мы все ранены, а он – как грязь в ране. Он опасен, его нужно удалить, я так чувствую. Почему ты не можешь в этот раз просто мне поверить?
НИКОЛАЙ. Элла, моё положение таково, что я не могу просто верить. Аликс внушает мне одно, ты – другое, Григорий – третье, и Николаша – четвёртое. Каждый из вас может быть добрым и честным человеком, хоть его и называют разными именами. Неужели ты думаешь, что я не вижу вреда от его… неразборчивых связей? Григорий забывается, и ты не первая, кто об этом говорит. Мне самому пришлось ему однажды об этом сказать. Но ты отвечаешь перед Богом за свою обитель, Григорий – за свою семью в Тобольской губернии, и только я – за всю эту землю. Я могу ошибаться и, видимо, ошибаюсь, помилуй меня Боже, но я не могу никому довериться полностью. Даже если я дам себя уговорить, тяжесть ответственности будет не на вас, а на мне.
ЕЛИСАВЕТА. Ваше величество, простите! (Встаёт и делает книксен.) Я не должна была приезжать.
НИКОЛАЙ (со слабой улыбкой, но подрагивающим голосом). Ты помнишь, Элла, как ты делала книксен перед образами в храмах, ещё до того, как приняла православие? А я, представь, до сих пор помню. Ты не останешься на обед? Я попрошу подать постное.
Елисавета Фёдоровна отрицательно поводит головой и, не отвечая, идёт к выходу.
Перед тем, как выйти, она, полуобернувшись, крестит Государя, сотворяя в воздухе широкое крестное знамение.
Николай, подойдя к окну, снова пробует зажечь папиросу. Его руки чуть дрожат, но в этот раз он справляется с зажигалкой. Закурив, он смотрит в окно.
[14]
– Я должен сказать, – заметил автор, – что считаю эту сцену одной из самых выразительных в вашем сборнике.
Могилёв коротко хмыкнул.
– Не уверен, что так, – не согласился он. – Но благодарю вас! Мне она тоже дорога: как мой первый актёрский опыт. В хлопушке Тэда, доложу вам, имелось что-то магическое! Не в буквальном смысле слова, конечно: надо быть совсем язычником, чтобы зависеть от магии вещей, а я хоть и запрещён в служении, ещё не анафематствован же. Не в дословном смысле, но, когда он щёлкнул ей, я перестал воспринимать происходящее как игру. Передо мной была не моя студентка, которой я преподавал отечественную историю, а – близкий человек, старшая меня четырьмя годами сестра жены, уважение, симпатия и даже нежность к которой смешивались от мучительной неловкости за малоуместность её просьбы. Да и сам я… Разумеется, я помнил краем ума свои настоящие имя и отчество, свою профессию и то, что на дворе – двадцать первый век, но это знание как бы ушло вдаль, обесцветилось, держалось на мне так же легко, как на дереве – осенние листья: тряхни дерево, и они облетят. Не хочу показаться высокопарным, но в этом «актёрстве» – крайне неудачный термин – присутствовало не столько актёрство, сколько нечто таинственное, мистериальное, и не могу объяснить вам происхождение этой тайны. Вот, например, до самого начала диалога я полагал важным объяснить собеседнице, что Григорий помогает Бэби – семейно-обиходное имя наследника. Но внутри этой сцены я понял, что я несвободен в своих словах, что сказать этого нельзя, что Элле, которая любую магию и магическое врачевание отвергает как «святая сестра», да и не без основания она делает так, говорить это – совершенно неуместно. Но я-то не могу позволить себе ограничиваться соображениями честны?х сестёр, потому что я не патриарх, а хозяин Русской Земли! Почему они не дали мне стать патриархом? Всё это, думаю, звучит странно, и все эти мысли прекратились после окончания сцены.
После второй хлопушки группа некоторое время молчала. «Браво!» – крикнул Герш, но в этом одиноком «Браво!» его никто не поддержал.
«Да-а, – протянул Марк. – Хорошо, что этого никто не видит».
«Почему это?» – повернулась к нему Настя, даже несколько резко.
«Потому, – пояснил Кошт, – что это – жирный козырь в руки монархистов и прочих разных… вздыхателей по барской плётке».
Я обратил внимание на то, что мы перешли к обсуждению, и предложил поэтому поставить стулья кругом для более правильной процедуры. Некоторое время мы занимались расстановкой мебели.
«Вы ведь ему подыгрывали, Андрей Михалыч, разве нет? – продолжил Кошт, едва мы расселись. – Признайтесь честно?»
«Нет, это неправда», – тихо и убеждённо проговорила Марта, прежде чем я сам успел ему возразить.
«Знаете, – начал Иван, ни к кому не обращаясь, – этого диалога в реальности не было, то есть почти наверняка не было. Но мы все воспринимаем его так, как если бы он был – в отличие от той сцены, где Алиса Гессенская отказала Наследнику. Ту мы обсуждали добродушно, а здесь, как я погляжу, задеты за живое. Хочу сказать, что есть, видимо, разные степени вероятности…»
«Обратите внимание на то, что Государь сказал о Распутине! – горячо заговорил Герш. – Это… это гениально – или, в любом случае, очень точно. Распутин – гадок, похотлив, неразборчив, но все его уродства – часть народной жизни, а монарх, в отличие от монаха, не может позволить себе быть избирательным по отношению к своему народу. Я скажу больше! Скажу то, что уже говорил в двадцать девятом году и не поленюсь повторить. Распутин – тёмный невежественный колдун, но склонность к невежественному обрядоверию – часть нашей, русской религиозности. Церковь не отлучила его от себя и не избавилась от этой тёмной части. В его явлении повинны мы все! Это именно наша, Русская православная церковь, перед семнадцатым годом выродилась настолько, что не сумела дать никакой более достойной фигуры! “Кровь его на нас и на детях наших”
, хотя в данном случае не “кровь на нас”, а “явление через нас”. Что, скажете, я неправ?»
«Борис так энергично обличает “нашу”, “русскую” Церковь, – пробормотал Алёша, как-то вжавшись в спинку своего стула, – что так и хочется спросить, говорит ли он от себя лично или от своего персонажа. Если от имени Шульгина – всё в порядке. А если от себя, то… простите за юдофобское замечание». Эта фраза вызвала сдержанные смешки.
«Голая софистика, которую Борису, э-э-э, господину Шульгину как умному человеку даже стыдно заниматься, – вступил Штейнбреннер. – Что значит “не был отлучён”? Церковь, которая зависит от светских властей и руководится Синодом, то есть является просто “духовным ведомством”, не может быть свободной в своём каноническом праве. Упрекать Церковь до семнадцатого года в том, что она, с её связанными руками, не анафематствовала Распутина – это как упрекать меня лично в том, что мой диплом об окончании Theodor-Heuss-Kolleg не признаётся Рособрнадзором и я не могу на его основании вести в России профессиональную деятельность. Смешно! Наоборот, в этой сцене я вижу ещё одно подтверждение бескультурного вмешательства царской власти в духовную область, и спасибо Андрею Михайловичу за то, что он так выпукло это представил».
«Я не понимаю, – глухо буркнула Лина, – что, нельзя было старшую дочь сделать царицей? Ваше величество, чего вы уцепились за больного мальчишку?»
«Нельзя отнимать царство у того, кому оно уже обещано, – тихо ответил я. – Это просто неделикатно. Бэби и так мог умереть в любой день: поскользнуться на ровном месте и истечь кровью. Тогда, действительно, можно было бы менять закон о престолонаследии. Я думал, что ещё успею это сделать. Но не во время войны же…»
«Вот из-за вашей деликатности и просрали Расею», – продолжала ворчать Лина, не замечая улыбок в свой адрес.
«Вы все не понимаете главного, – подхватила нить дискуссии Марта. – А главное в том, что два хороших и близких друг другу человека не могли понять друг друга. Ведь матушка была полностью права! И Государь тоже, по-своему. Мы все летели в пропасть с чёртом на облучке без всякой надежды. Какой это всё ужас…» Сказав это, она поднесла ко рту указательный палец и прикусила его зубами, невидяще глядя перед собой.
«Марта, может быть, не стоит так близко к сердцу принимать фикцию, точней, экспериментальную модель, и по ней делать окончательные выводы?» – сочувственно обратился к ней Иван. Его сочувствие, конечно, выглядело как критика, но Иван был весь такой, прохладно-отрешённый – то есть до известной точки, перейдя которую, он становился другим человеком. И в этот момент у меня завибрировал телефон.
[15]
– Я забыл в начале дня его отключить, – пояснил рассказчик. – Извинившись, я сбросил звонок. Но этот противный аппарат зажужжал снова! Я глянул на экран – и, кашлянув, обратился к группе:
«Дорогие юные и не очень юные коллеги, этот звонок – от Владимира Викторовича. Я вынужден его принять, извините! Выйду в коридор, чтобы не мешать вам».
В коридоре я взял трубку.
«Андрей Михалыч, наконец-то! – почти оглушил меня энергичный голос Бугорина, так что я, поморщившись, убрал аппарат от уха и заодно включил уж «громкую связь». – Куда вы пропали? Где вас черти носят?»
Дверь аудитории открылась: Ада и Настя вышли вслед за мной в коридор. Стояли и глядели на меня с беспокойством.
«Я в научной библиотеке, Владимир Викторович, – ответил я со сдержанной неприязнью. – Участвую в работе творческой группы, что не очень легко делать, отвлекаясь на звонки. Как духовное лицо, хоть и бывшее, должен сказать, что против упоминания чертей всуе. Если мы их так часто кличем, они ведь и в самом деле явятся».
«А ты мне вечно будешь тыкать в нос тем, что ты бывшее духовное лицо? – распалялся на другом конце провода завкафедрой. – Ты мне лучше скажи, почему завязываешь отношения через мою голову?»
«Какие отношения?» – не понял я.
«Почему, дубовый твой колган, я узнаю про приказ о создании лаборатории от Яблонского, а не от тебя?»
Да, конечно, подумал я. Когда непосредственный начальник педагога называет его голову дубовым колганом, а студенты и аспиранты слышат этот эпитет, он, безусловно, имеет высокое воспитательное значение.
«Настя, Ада, – шепнул я, – возвращайтесь в класс, хотя бы кто-нибудь одна, приглядите за работой группы».
Моя аспирантка послушалась, но староста осталась. Она и не думала никуда уходить, а я не мог же её прогонять жестами словно кошку или курицу, правда?
«С кем ты там шепчешься? – с подозрением спросил Бугорин.