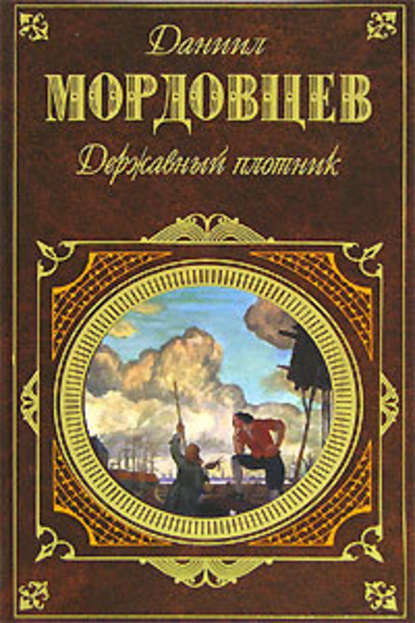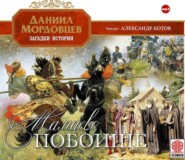По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Державный плотник
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Эх! Умереть бы, Господи!
– Что ты! Что ты, Иринеюшка!
– Э! Так-ту маяться!
Девушка перестала качаться. Глаза ее упали на черную, низко наклоненную голову молодого послушника.
– Для чего же ты пошел в монастырь, коли теперь... – спросила было она и не договорила.
– Меня матушка отдала, – грустно отвечал юноша.
– За что?
– А так... за батюшку... Богу посвятила...
Оленушка глядела на него с удивлением: она не понимала того, что говорил он.
– Богу? Как посвятила?
– По обету... обет такой дала, давно, я тогда был еще тахеньким... Батюшку в те поры послал царь с ратными людьми на воровского атамана, на Стеньку Разина...
– А кто твой батюшка? – спросила Оленушка, заинтересованная словами юноши.
– Борятинский-князь, Юрье Микитич...
– Так ты княжич? – спросила изумленная девушка.
– Был княжич, а ноне служка... кошели плету.
Голос у юноши дрогнул... Задрожали и пальцы, которыми он сплетал гибкие нити морской травы.
– Ах, бедненький! – невольно вырвалось сожаление у Оленушки. – Как же это матушка твоя отдала тебя сюда? И не жаль ей было?
– Жаль, да что поделаешь? Богу обещала, коли-деи Бог воротит батюшку из похода жива, так отдам-деи Богу сына... Ну и отдали. Стенька-то уж больно страшен был. Как батюшка ушел из Казани против Стеньки к Симбирскому городу, так мы с матушкой и всей Казанью день и ночь Богу молились.
– Что ж, воротился батюшка?
– Воротился... Стеньку на Москву отвезли и там сказнили, а меня вот сюда...
Слезы невольно брызнули из глаз юноши и полились на его жалкое плетение. Он припал лицом к ладоням и плакал. Оленушка не могла выносить этого и, соскользнув с качелей, стала на колени около плачущего юноши.
– Не плачь, Иринеюшко... не плачь, княжич, – всхлипывала она сама.
Иринеюшка заплакал еще сильнее.
– Княжич, голубчик, не плачь!
И девушка гладила волнистую голову юноши. Тот не унимался, а, напротив, почувствовав ласку, услыхав участные слова, уткнулся лицом в колени и плакал навзрыд, как бы силясь вылить всю размягченную посторонним участием душу. Слезы брызнули и у Оленушки.
– Господи! Да что ж это такое! – всплакалась она, силясь приподнять голову юноши.
Тот продолжал качать головой, как бы от нестерпимой боли, и не переставал плакать. Оленушка припала к нему лицом и обхватила его.
– Княжич мой! Родненький! Не надо! Не надо, миленький! – страстно молила она.
Он приподнял голову, не отнимая мокрых пальцев от лица. Девушка обвилась руками вокруг его шеи, прижалась лицом к его лицу и в забытьи шептала, целуя его руки и щеки: «Милый! Дорогой! Братец мой!»
Она не заметила в этом страстном порыве жалости, как его руки отнялись от лица и обвились вокруг девушки, а горячие губы бессознательно соединились... «Сестрица! Оля моя! Ягодка!» «Братец мой! Княжинька!» – И губы снова сливались, слова замирали...
– Ну, вот! – как бы опомнилась Оленушка, вся красная. – Вот теперь ты не плачешь! Ах, как я рада!.. Знаешь что?
Иринеюшка смотрел на нее молча и, казалось, ничего не понимал.
– Знаешь что? – торопливо, радостно захлебываясь, говорила Оленушка. – Когда ты будешь совсем большой... который тебе год теперь? – спросила она, перебивая себя.
– Шестнадцатый, – машинально отвечал Иринеюшка.
– А мне уже семнадцать, я старше... Так вот, как ты вырастешь совсем большой, так тогда возьми и уйди из монастыря... Да, уйдешь?
Иринеюшка молча покачал головой.
– Отчего же? А?
– Нельзя... Монастырь что гроб.
– Ну, вот еще!.. А то княжич, княжой сын, и кошелки плетет, ах!
И Оленушка звонко и весело расхохоталась. Иринеюшка молча любовался ею. Оленушка вдруг подошла к нему и стала играть его шелковыми волосами.
– Ишь, словно у девочки коса... Ах, как смешно! – болтала она. – Дай я тебе заплету ее и свою ленту вплету в косу, вот и будешь княжна, княженецка дочь, ах!
И она повернула его за плечи и стала плести ему косы. Иринеюшка невольно повиновался шалунье.
Черная коса была вмиг заплетена.
– Вот так-ту... уж какая большая коса-косынька!.. А теперь ленту надоть... – И она выплела алую ярославскую ленту из своей косы и вплела ее в косу Иринеюшке.
– Ах, как хорошо! – Она повернула его к себе лицом. – Ах, какая хорошенькая девочка! Ах, княжецкая дочь!
Иринеюшка не шевелился, он стоял как очарованный.
– Ну, что ж ты молчишь, царевна Несмеяна! – приставала к нему Оленушка. – Ну! Покачай меня.
И она, взяв его за плечи, подвела к качелям:
– На, держи, а я сяду.
Усевшись на дубовое сиденье и ухватившись руками за веревки, она вдруг зачастила тоненьким голоском: