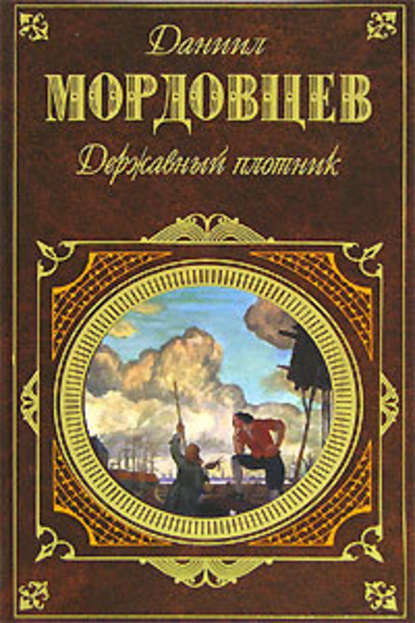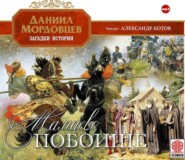По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Державный плотник
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Стрельцы, знамо.
– Ох! Чтой-то ты, Иринеюшка! Страх какой! Упаси Бог!
– Нас бы не обидели... Зато ворота настежь, вылетай из темной темницы...
– Ох! Чтой-то ты!
– Дело говорю... Мы бы с тобой знаешь что?
– А что? Говори – не томи!
– Вольные пташки... Ты в Архангельской, а я...
Голос смолк. Феклис напряженно прислушивался.
– А ты? – послышался робкий вопрос с дрожью в голосе.
– Я на Дон... Там вольная жизнь... Казаки сказывали, там всем бегунам рады.
– Ах, Господи! Как же так? Для чего на Дон?
В голосе вопрошающей слышались слезы.
– Куда же мне? Мне к родной стороне путь заказан, я, чу, отпет, заживо.
– Ах, Боже мой! Что ж это такое!
– Так, Оленушка... Уж так, чу, мне на роду написано, мертвой печатью припечатано...
– Господи! Да ты еще такой молоденький... ты... Вон я.
– Что ж, не пропаду... А пропаду, все же легче, чем тутока изнывать...
– А я-то!.. Княжич!..
Больше не было слышно. Казалось только, что кто-то всхлипывал...
Феклис мрачно сверкнул глазами...
– Ноне же ночью прокрадусь к воеводе, и будь что будет! – прошептал он и исчез в башне.
– И как он, Спиря-то, узнал, что стрельцы ноне утром на вороп пойдут? – слышались голоса черной братии, сходившей со стены.
– Как? Знамо: он святой человек, в сониях видит.
– В сониях, это точно... А не узнай он вперед в сониях-ту, что они, еретики, задумали, ну, и капут бы нам.
– О-о-охо-хо! И святок бы не дождались.
– А он, как и ни в чем не бывало: вона опять с своими голубями хороводится.
Спиря все слышал, разговаривая с голубями... «Не в сониях я видел, – думал он про себя, – а из своей печерочки все выглядел да подслушал... О печерочке-то никто не ведает, Оленушка одна знает, да и то не все».
Спиря жестоко ошибался: тайну юродивого знала не одна Оленушка; знал еще кто-то, и знал все...
– В сониях, то-то в сониях! – шептал и Феклис, сходя со стены. – И сония его не помогут; как я свою-то струну трону... Ух, загудит струна! А все из-за этой пучеглазой... Эх! Была не была!
XV. ПЕРЕБЕЖЧИК
На монастырь спустилась ночь темная, непроглядная. Небо заволокло с запада мрачною пеленою, и бесконечная пелена эта, словно бы разодравшись от края до края, стала сыпать на остров тучи снегу. Он падал на землю тихо, ровно, не кружась метелью и не завывая ветром. Тишь стояла мертвая. Весь остров казался похороненным под снегом.
А между тем за одним из уступов монастырской стены, вдоль береговой покатости, где весной Оленушка сплетала венок из серо-зеленого мха, медленно двигалось что-то темное. Эта темная человеческая фигура как бы из земли, из-под снегу выросла. За падающим снегом ни лица, ни других очертаний этой тени нельзя было разобрать, но видно было, что она подвигалась к тому месту, где у небольшой губы, врезавшейся в остров, расположен был стрелецкий стан.
– Стой! Кто идет? – часовые вскочили со своих мест. – Кто ты?
– Ваше спасенье, добрые люди, – отвечала тень.
– Кто ты таков? Каков человек?
– Человек добрый.
– Зачем пришел?
– Это я скажу воеводе, ведите меня к нему.
– Ишь ты! Да ты чернец?
– Чернец и есть.
– Может, с подвохом с каким, с умыслом?
– Коли бы с подвохом, не пошел бы прямо на вас.
– А пес тебя ведает.
– Что пса в судьи брать! Ведите к воеводе, чего боитесь? Вас двоетка, а я один: у вас ружья да сабелье, а на мне один хрест.
– И то правда.
Подошли к землянке, занесенной снегом. Сбоку, под навесом, чернелось что-то вроде норы. Один из стрельцов нагнулся и постучал ружьем о деревянную подпорку.
– Кто там? – послышался голос.
– Мы, стрельцы с часов.
– За каким делом?
– Языка привели.