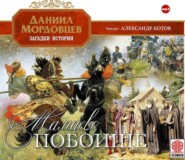По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Царь и гетман
Автор
Серия
Год написания книги
1880
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пани матка улыбнулась.
– Домовина – се гроб по-нашему, – сказала она.
– А! – удивился боярин. – Вот язык чудной! Гроб у них домовина… Да оно и вправду, матушка, гроб есть наша вечная домовина…
Самойловича увели, наконец, прибегнув к маленькому обману. Палий показал вид, что перед ним настоящий гетман, и постоянно обращался к нему со словами: «пане гетмане», «ясновельможный», «батьку козацкий». Он поддерживал в нем его тихое, спокойное заблуждение, что они теперь находятся в Украине, на Днепре, недалеко от Запорожской Сечи, и именно на хуторе у Палия. На Енисей безумец смотрел, как на Днепр…
– А, Днипро-батьку, здоров був, – приветствовал он голубую, широкую ленту воды при виде Енисея, когда подходили к невольному жилью Палия. – Ото добре будет, как поплывут тут чайки козацкия да в море выйдут! Они там будут Царьград мушкетным дымом окуривать, а мы тут у Крыму орде чосу задамо.
– Задамо, задамо, – подтверждал Палий, грустно опуская седую голову.
Они вошли в избу.
– Вот и курень мой, пане гетмане, – говорил Палий.
– Добрый, добрый курень, – бормотал безумец.
Ему представили Семашку и Охрима.
– А Мазепа где? – спохватился безумный.
Палий смешался было, вопрос застал врасплох. Но пани матка выручила своею находчивостью:
– Мазепа универсалы пише, пане гетмане, – сказала она.
– А! Универсалы… добре, добре… У Мазепы перо соловьиное, у, мастер писать, собачий сын!.. На тот час как мы с Дорошенком на перах войну вели, Мазепа золото был для мене: такого, було, спотыкача у листу надряпа, шо у Дорошенка, було, аж шкура заболит… «Ознаймучи», було, вверне, да «здирства вшеляки», да латинською речию, мов перцем, пересыплет, так у вражого сына Дорошенка од такого листа аж очи рогом… Золото, а не писарь Мазепа…
Палий заметил, что в памяти несчастного прошлое сохранилось нетронутым и представлялось в последовательном и логическом порядке, в картинах прошлого воскресал и потерянный рассудок его, сказывалась и ясность представлений; но в настоящем был хаос и полное забвение всего, что происходило уже за пределами этого светлого круга. Старики вспомнили даже, как они юношами учились в Киевской коллегии и как, несмотря на дружбу, на глубокую, можно сказать, взаимную привязанность, они были непримиримыми врагами там, где дело касалось первенства: и тот и другой хотел быть первым в коллегии и потом на всей Украине. Будучи оба одарены богатыми способностями, они быстро усваивали все, что касалось знания, обогащения памяти научными сведениями, и вечно воевали из-за первого места в классе.
– Цесарь, Цесарь, собачий сын, этот Мазепа, – бормотал Самойлович, который в ссылке, по-видимому, совсем усвоил великорусскую речь и все на нее сбивался, – настоящий Цесарь: veni, vidi, vici…[67 - Пришел, увидел, победил (лат.).]
– А помнишь, друже, как мы с тобой в коллегии хотели оба бути цесарями? – наводил Палий на прошлое.
– Как не помнить! «Лучше быть первым на Украине, чем вторым за партою в коллегии» – это ты ж выгадал, – задумчиво улыбался Самойлович, не расставаясь с своим чекмарем.
– Я, я… Только не удалось мне быть первым на Украине, – продолжал Палий, тоже впадая в русскую речь. – А вот ты был первым…
– Как был? Я и поднесь первым остаюсь: Дорошенка отправил туда, где козам рога правят.
Палий спохватился, поняв свою ошибку.
– Так, так, точно первый ты на Украине, пане гетьмане…
– Ты, признайся теперь, Семене, с досады на меня и на тот бок Днепра ушел? А? – лукаво допрашивал безумец. – Не осилил Иоанна Самуйловича? А?
– Правда, правда, по зависти ушел…
– И скучна, пустынна, должно быть, оная «руина»? А?
– Была пустынна, теперь там рай земный, страна обетованная, текущая медом и млеком… Там бы и умереть…
И у Палия защемило сердце от одного воспоминания об отнятом у него крае, о новом царстве Украинском… Хвастов, Паволочь, Погребищи, Белая Церковь – эта «новая Троя», как ее назвал Рейнгольд Паткуль, все это, как пестрая лента, протянулось в памяти старика и выдавило слезы из глаз.
– А вот что, Семене, – снова начал безумец, – мы с тобою отвоюем эту Правобережную Украину у ляхов, а потом (безумец огляделся по сторонам – не подслушал бы его кто) отложимся от проклятой Москвы, поставим новое царство Украинское: я буду царем сегобочного царства Украинского, ты же, Семене, царем тогобочным, как бывало в коллегии за партою: и я, и ты первый… И будет у нас два царства, како две Иудеи, либо царство Римское и Византийское… А Москва нам не помеха: она ныне сама с собою не справится… Да и у нее на сей час два царика, два младенца – Иоанн да Петр, коими баба, дивчина, заправляет, аки мамка…
Слушая безумца, Палий горестно улыбался: пусть-де утешается перед смертью несчастный, у которого горе вычеркнуло из жизни и из памяти двадцать лет страданий, двадцать долгих лет, в продолжение коих у Палия и у Самойловича успели пожелтеть сивые бороды, а из младенца Петра вырос великан, который топчет своими победоносными ногами не только сегобочную и тогобочную Украину, но и все балтийское и варяжское побережье с Корелиею и Ингерманландиею[68 - Ингерманландия – название Ижорской земли, древней пятины (области) Новгорода Великого.]… Куда безумным старцам тягаться с этим великаном, у которого и силы, и замыслы непомерны, как его рост!
Пани матка между тем и добрый Охрим хлопотали по хозяйству, чтобы успокоить и накормить дорогого гостя, безумного гетмана своего. С него сняли лохмотья и дали ему чистую сорочку и иную одежду, взятую у Семашки, так как платье тщедушного и маленького телом, хотя и могучего духом Палия было не по плечу коренастому, хотя тоже теперь сгорбленному и пригнутому к земле, некогда гордому вельможному гетману. Семашко притащил живой рыбы на обед, достал у рыбаков на Енисее. А безумец все не расставался с своим чекмарем-булавою даже тогда, когда Палий переодевал его… «Украдет, украдет этот собачий сын, Петрушка Дорошенок, как его покойный царь Алексей Михайлович в грамоте облаял, хочется ему моей булавы», – пояснял несчастный.
Увидав на столе неприбранную по нечаянности тетрадку «летописцев козацких», Самойлович взял ее и, щурясь старческими своими близорукими глазами, начал перелистывать.
– А, «летописец козацкий»… Того ж року, того же року дума велика была, – шептал он, перелистывая тетрадку. – А! Вот и обо мне пишут – гетман Иван Самуйлович… Так, так… «Того ж року тысяща шестьсот семьдесят восьмого» – о! Давно сие было, десять лет назад. Ну, ну, почитаем: «Того ж року, июля десятого, войска великия подступили турецкия с визирем Мустафою под Чигирин с тяжарами великими…» Так, так, это об Чигиринском походе, когда проклятый Дорошенко турок на Украину призвал… Ну – «а войско его царского величества с князем Ромодановским[69 - Ромодановский Федор Юрьевич (1640–1717) – князь, ведал Преображенским приказом, политическим сыском, в отсутствие царя был фактический правитель страны, князь-кесарь.] и гетманом Иваном Самуйловичем переправилися того часу через Днепр, нижей Бужина, на поля чигиринския…» О, помню, помню: трудное то было время, немало полегло в поле козаков… А все проклятый Дорошенко, да и Юрасько Хмельницкий там был…
Перелистывая тетрадку, он прищурился к одной страничке и задумался.
– Об ком бы сие письмо было, о каком гетмане? – удивлялся он.
– Что такое, пане гетьмане? – тревожно спросил Палий, догадываясь с ужасом, что безумец наткнулся на ту именно роковую страницу, где описывалось его собственное, Самойловича, падение. – Что там писано? Да будет тебе, пане гетьмане, читать, поговорим лучше.
И Палий хотел как-нибудь тихонько стащить эту злосчастную тетрадку.
– Нет, постой, постой, Семене, – не давал безумец, – о ком бы сие писание?.. «И оточили сторожею доброю гетмана на ночь, – читал он, водя пальцем по строкам, – а на светание, прийшовши старшина козацкая до церкви, и узяли гетмана з бесчестием, ударивши, и отдали Москве. И зараз сторожа московская, усадивши его на простые колеса московские, а сына гетманского Якова на коницю худую, охляп без седла, и провадили до московского табору…»
Несчастный остановился и смотрел на Палия безумными глазами. Он, казалось, хотел что-то припоминать и не мог… Вот, вот-вот, кажется, что-то припоминает… Ночь такая жаркая… Слышатся окрики часовых… А там утром шум на площади, крики: «Давай гетмана, сучого сына! Киями его, злодея!..» Кого-то тащат, кто-то бьет в ухо: кажется, это его бьют, гетмана Ивана Самуйловича… Нет, это сон!.. И тележка московская – сон…
Несчастный мучительно силится припомнить что-то, и мозг его не слушается, память отлетела… Какие-то осколки в памяти: жаркая ночь и крики, только… Что ж после было, утром? Кого везли на тележке?.. Кого били по уху и по щеке? Его, Божою милостию Иоанна, нет, не может быть!.. А кажется, били… щека и теперь как будто горит…
– А красная у меня, Семене, левая щека? – дико глядя на Палия, спрашивает несчастный…
– Нету, пане гетьмане, не красная, – дрожа всем телом, отвечает Палий.
– То-то… а горит, это я сегодня во сне видел, что меня кто-то в щеку ударил… на московской тележке везли меня… Вот какой сон!
– Всякие сны бывают, пане гетьмане.
– Да, да… а горит щека…
В это время в избу вошла пани матка, вся раскрасневшаяся, с засученными за локти рукавами шитой сорочки. Она «поралась» в кухне, готовила обед дорогому гостю, ясновельможному гетману обеих половин Украины.
– А я вже и обидати наварила, пане гетьмане! – весело сказала она. – Зараз буду дорогого гостя частвувати, чим Бог послав у московский неволи…
Палий строго взглянул на жену, и она, спохватившись, прикусила свой говорливый, бойкий язык. Она тотчас же собрала на столе все, что на нем лежало, в том числе и предательского «летописца козацкого».
Несчастный гетман, впрочем, услыхав слово «обидати», забыл опять все: и прошедшее и настоящее; он ощутил только одно чувство теперь – это мучительное, чисто животное чувство голода, который томил его, он и сам не помнит, сколько уж дней и ночей… В безумце проснулось животное, и он жадно ждал обеда…
За обедом ел он с алчностью идиота, молча и как будто со злобой пожирая огромные куски хлеба, рыбы, обжигаясь горячим и давясь неразжевываемою беззубым ртом пищею. С свесившимися на лицо прядями седых волос, пасмы коих полузакрывали его впалые, как у мертвеца, щеки; с глазами, горевшими безумным огнем из-под седых, длинных, словно собачьих бровей; со ртом, набитым пищею, он походил на зверя или озверевшего, одичалого человека…
И Палий, и пани матка, и Семашко, и Охрим с глубоким сожалением и какою-то боязнью смотрели украдкой на несчастного и почти ничего не ели. Под конец обеда он стал есть спокойнее, не так торопливо. Бледное лицо немножко утратило свою мертвенную бесцветность. Глаза стали добрее, осмысленнее.
– Домовина – се гроб по-нашему, – сказала она.
– А! – удивился боярин. – Вот язык чудной! Гроб у них домовина… Да оно и вправду, матушка, гроб есть наша вечная домовина…
Самойловича увели, наконец, прибегнув к маленькому обману. Палий показал вид, что перед ним настоящий гетман, и постоянно обращался к нему со словами: «пане гетмане», «ясновельможный», «батьку козацкий». Он поддерживал в нем его тихое, спокойное заблуждение, что они теперь находятся в Украине, на Днепре, недалеко от Запорожской Сечи, и именно на хуторе у Палия. На Енисей безумец смотрел, как на Днепр…
– А, Днипро-батьку, здоров був, – приветствовал он голубую, широкую ленту воды при виде Енисея, когда подходили к невольному жилью Палия. – Ото добре будет, как поплывут тут чайки козацкия да в море выйдут! Они там будут Царьград мушкетным дымом окуривать, а мы тут у Крыму орде чосу задамо.
– Задамо, задамо, – подтверждал Палий, грустно опуская седую голову.
Они вошли в избу.
– Вот и курень мой, пане гетмане, – говорил Палий.
– Добрый, добрый курень, – бормотал безумец.
Ему представили Семашку и Охрима.
– А Мазепа где? – спохватился безумный.
Палий смешался было, вопрос застал врасплох. Но пани матка выручила своею находчивостью:
– Мазепа универсалы пише, пане гетмане, – сказала она.
– А! Универсалы… добре, добре… У Мазепы перо соловьиное, у, мастер писать, собачий сын!.. На тот час как мы с Дорошенком на перах войну вели, Мазепа золото был для мене: такого, було, спотыкача у листу надряпа, шо у Дорошенка, було, аж шкура заболит… «Ознаймучи», було, вверне, да «здирства вшеляки», да латинською речию, мов перцем, пересыплет, так у вражого сына Дорошенка од такого листа аж очи рогом… Золото, а не писарь Мазепа…
Палий заметил, что в памяти несчастного прошлое сохранилось нетронутым и представлялось в последовательном и логическом порядке, в картинах прошлого воскресал и потерянный рассудок его, сказывалась и ясность представлений; но в настоящем был хаос и полное забвение всего, что происходило уже за пределами этого светлого круга. Старики вспомнили даже, как они юношами учились в Киевской коллегии и как, несмотря на дружбу, на глубокую, можно сказать, взаимную привязанность, они были непримиримыми врагами там, где дело касалось первенства: и тот и другой хотел быть первым в коллегии и потом на всей Украине. Будучи оба одарены богатыми способностями, они быстро усваивали все, что касалось знания, обогащения памяти научными сведениями, и вечно воевали из-за первого места в классе.
– Цесарь, Цесарь, собачий сын, этот Мазепа, – бормотал Самойлович, который в ссылке, по-видимому, совсем усвоил великорусскую речь и все на нее сбивался, – настоящий Цесарь: veni, vidi, vici…[67 - Пришел, увидел, победил (лат.).]
– А помнишь, друже, как мы с тобой в коллегии хотели оба бути цесарями? – наводил Палий на прошлое.
– Как не помнить! «Лучше быть первым на Украине, чем вторым за партою в коллегии» – это ты ж выгадал, – задумчиво улыбался Самойлович, не расставаясь с своим чекмарем.
– Я, я… Только не удалось мне быть первым на Украине, – продолжал Палий, тоже впадая в русскую речь. – А вот ты был первым…
– Как был? Я и поднесь первым остаюсь: Дорошенка отправил туда, где козам рога правят.
Палий спохватился, поняв свою ошибку.
– Так, так, точно первый ты на Украине, пане гетьмане…
– Ты, признайся теперь, Семене, с досады на меня и на тот бок Днепра ушел? А? – лукаво допрашивал безумец. – Не осилил Иоанна Самуйловича? А?
– Правда, правда, по зависти ушел…
– И скучна, пустынна, должно быть, оная «руина»? А?
– Была пустынна, теперь там рай земный, страна обетованная, текущая медом и млеком… Там бы и умереть…
И у Палия защемило сердце от одного воспоминания об отнятом у него крае, о новом царстве Украинском… Хвастов, Паволочь, Погребищи, Белая Церковь – эта «новая Троя», как ее назвал Рейнгольд Паткуль, все это, как пестрая лента, протянулось в памяти старика и выдавило слезы из глаз.
– А вот что, Семене, – снова начал безумец, – мы с тобою отвоюем эту Правобережную Украину у ляхов, а потом (безумец огляделся по сторонам – не подслушал бы его кто) отложимся от проклятой Москвы, поставим новое царство Украинское: я буду царем сегобочного царства Украинского, ты же, Семене, царем тогобочным, как бывало в коллегии за партою: и я, и ты первый… И будет у нас два царства, како две Иудеи, либо царство Римское и Византийское… А Москва нам не помеха: она ныне сама с собою не справится… Да и у нее на сей час два царика, два младенца – Иоанн да Петр, коими баба, дивчина, заправляет, аки мамка…
Слушая безумца, Палий горестно улыбался: пусть-де утешается перед смертью несчастный, у которого горе вычеркнуло из жизни и из памяти двадцать лет страданий, двадцать долгих лет, в продолжение коих у Палия и у Самойловича успели пожелтеть сивые бороды, а из младенца Петра вырос великан, который топчет своими победоносными ногами не только сегобочную и тогобочную Украину, но и все балтийское и варяжское побережье с Корелиею и Ингерманландиею[68 - Ингерманландия – название Ижорской земли, древней пятины (области) Новгорода Великого.]… Куда безумным старцам тягаться с этим великаном, у которого и силы, и замыслы непомерны, как его рост!
Пани матка между тем и добрый Охрим хлопотали по хозяйству, чтобы успокоить и накормить дорогого гостя, безумного гетмана своего. С него сняли лохмотья и дали ему чистую сорочку и иную одежду, взятую у Семашки, так как платье тщедушного и маленького телом, хотя и могучего духом Палия было не по плечу коренастому, хотя тоже теперь сгорбленному и пригнутому к земле, некогда гордому вельможному гетману. Семашко притащил живой рыбы на обед, достал у рыбаков на Енисее. А безумец все не расставался с своим чекмарем-булавою даже тогда, когда Палий переодевал его… «Украдет, украдет этот собачий сын, Петрушка Дорошенок, как его покойный царь Алексей Михайлович в грамоте облаял, хочется ему моей булавы», – пояснял несчастный.
Увидав на столе неприбранную по нечаянности тетрадку «летописцев козацких», Самойлович взял ее и, щурясь старческими своими близорукими глазами, начал перелистывать.
– А, «летописец козацкий»… Того ж року, того же року дума велика была, – шептал он, перелистывая тетрадку. – А! Вот и обо мне пишут – гетман Иван Самуйлович… Так, так… «Того ж року тысяща шестьсот семьдесят восьмого» – о! Давно сие было, десять лет назад. Ну, ну, почитаем: «Того ж року, июля десятого, войска великия подступили турецкия с визирем Мустафою под Чигирин с тяжарами великими…» Так, так, это об Чигиринском походе, когда проклятый Дорошенко турок на Украину призвал… Ну – «а войско его царского величества с князем Ромодановским[69 - Ромодановский Федор Юрьевич (1640–1717) – князь, ведал Преображенским приказом, политическим сыском, в отсутствие царя был фактический правитель страны, князь-кесарь.] и гетманом Иваном Самуйловичем переправилися того часу через Днепр, нижей Бужина, на поля чигиринския…» О, помню, помню: трудное то было время, немало полегло в поле козаков… А все проклятый Дорошенко, да и Юрасько Хмельницкий там был…
Перелистывая тетрадку, он прищурился к одной страничке и задумался.
– Об ком бы сие письмо было, о каком гетмане? – удивлялся он.
– Что такое, пане гетьмане? – тревожно спросил Палий, догадываясь с ужасом, что безумец наткнулся на ту именно роковую страницу, где описывалось его собственное, Самойловича, падение. – Что там писано? Да будет тебе, пане гетьмане, читать, поговорим лучше.
И Палий хотел как-нибудь тихонько стащить эту злосчастную тетрадку.
– Нет, постой, постой, Семене, – не давал безумец, – о ком бы сие писание?.. «И оточили сторожею доброю гетмана на ночь, – читал он, водя пальцем по строкам, – а на светание, прийшовши старшина козацкая до церкви, и узяли гетмана з бесчестием, ударивши, и отдали Москве. И зараз сторожа московская, усадивши его на простые колеса московские, а сына гетманского Якова на коницю худую, охляп без седла, и провадили до московского табору…»
Несчастный остановился и смотрел на Палия безумными глазами. Он, казалось, хотел что-то припоминать и не мог… Вот, вот-вот, кажется, что-то припоминает… Ночь такая жаркая… Слышатся окрики часовых… А там утром шум на площади, крики: «Давай гетмана, сучого сына! Киями его, злодея!..» Кого-то тащат, кто-то бьет в ухо: кажется, это его бьют, гетмана Ивана Самуйловича… Нет, это сон!.. И тележка московская – сон…
Несчастный мучительно силится припомнить что-то, и мозг его не слушается, память отлетела… Какие-то осколки в памяти: жаркая ночь и крики, только… Что ж после было, утром? Кого везли на тележке?.. Кого били по уху и по щеке? Его, Божою милостию Иоанна, нет, не может быть!.. А кажется, били… щека и теперь как будто горит…
– А красная у меня, Семене, левая щека? – дико глядя на Палия, спрашивает несчастный…
– Нету, пане гетьмане, не красная, – дрожа всем телом, отвечает Палий.
– То-то… а горит, это я сегодня во сне видел, что меня кто-то в щеку ударил… на московской тележке везли меня… Вот какой сон!
– Всякие сны бывают, пане гетьмане.
– Да, да… а горит щека…
В это время в избу вошла пани матка, вся раскрасневшаяся, с засученными за локти рукавами шитой сорочки. Она «поралась» в кухне, готовила обед дорогому гостю, ясновельможному гетману обеих половин Украины.
– А я вже и обидати наварила, пане гетьмане! – весело сказала она. – Зараз буду дорогого гостя частвувати, чим Бог послав у московский неволи…
Палий строго взглянул на жену, и она, спохватившись, прикусила свой говорливый, бойкий язык. Она тотчас же собрала на столе все, что на нем лежало, в том числе и предательского «летописца козацкого».
Несчастный гетман, впрочем, услыхав слово «обидати», забыл опять все: и прошедшее и настоящее; он ощутил только одно чувство теперь – это мучительное, чисто животное чувство голода, который томил его, он и сам не помнит, сколько уж дней и ночей… В безумце проснулось животное, и он жадно ждал обеда…
За обедом ел он с алчностью идиота, молча и как будто со злобой пожирая огромные куски хлеба, рыбы, обжигаясь горячим и давясь неразжевываемою беззубым ртом пищею. С свесившимися на лицо прядями седых волос, пасмы коих полузакрывали его впалые, как у мертвеца, щеки; с глазами, горевшими безумным огнем из-под седых, длинных, словно собачьих бровей; со ртом, набитым пищею, он походил на зверя или озверевшего, одичалого человека…
И Палий, и пани матка, и Семашко, и Охрим с глубоким сожалением и какою-то боязнью смотрели украдкой на несчастного и почти ничего не ели. Под конец обеда он стал есть спокойнее, не так торопливо. Бледное лицо немножко утратило свою мертвенную бесцветность. Глаза стали добрее, осмысленнее.