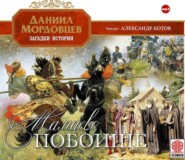По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Царь и гетман
Автор
Серия
Год написания книги
1880
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну? Що ж Голота? Голота добрый чоловик, хоча й пьяный.
– Та негоже казати, пани матка. – И Охрим застыдился. – Се я, бачь, так, здуря.
– От дурный! А ще козак…
– Та я ничого, – оправдывался тот. – Он вони, батько, знают, – и он указал на Палия.
– Що таке, Охриме? – спросил тот. – Що я знаю?
– Та як Голота ляхам дорогу показував.
Палий тоже улыбнулся, и Охрим был рад, что развеселил старика, на лице у которого давно никто не видал улыбки. Это заинтересовало и Палииху.
– А як же ж вин показував? – спросила она мужа.
– Та по-козацьки… Ишов польский регимент пид Хвастовым, та не знав дороги. А Голота з козаками сино косив, стоги вершили, так вин на стогу стояв. Его й пытают ляхи: де дорога на Лабунь. А Голота й показав, де що таке, що ляхи его трохи не вбили за те, та други козака не дали…
Охрим не утерпел и опять покатился со смеху.
– Ото дурный! – смеялась и Палииха.
– Не вин дурный, – заметил старик, – а пан региментарь: вин до мене универсаль прислав, що Голота ему – «juxta suam barbariam rusticam, in honeste tergiversionem ostendit»[61 - В советах сельский варвар дал обнаружить бесчестную свою уклончивость (лат.).] – так в универсали и написав, мов Цесарь сенату.
– Ну вже я вашои бурсацькои речи не розумию, – сказала Палииха.
В это время в сенях что-то застучало и высморкалось. Все взглянули на дверь: кому бы там быть? Охрим схватился с лавки, подошел к двери, но дверь сама отворилась, и на пороге показалась лысая голова с остатками седых, болтающихся за ушами косичек. Вошедший был старик лет шестидесяти, с лицом, обезображенным оспою, с глазами, косившими так, что никто никогда не знал, куда они глядят и что видят. Одет он был в желтый нанковый кафтан, подпоясанный широким, как у попа, кушаком, в нанковые же грязно-зеленые штаны, убранные в сапоги из некрашеной юфти[62 - Юфть – кожа взрослого животного, коровы, свиньи, лошади, выделанная особым способом на дегте, применялась для пошива крепкой обуви и седел.]. Войдя в избу, он, по-видимому глядя в левый угол, перекрестился на правый, передний, где в углу, в золотой ризе, блистал образ Покрова Богородицы, увешанный узорчатыми полотенцами. Кланяясь образу, он сильно встряхивал косичками и то же делал, приветствуя хозяина и хозяйку.
– Мир дому сему и здравие, – сказала лысая голова, глядя не то в потолок, не то под лавку.
– Дякуем… благодаримо на добром слове, батюшка Потапьич, – поспешила Палииха. – Просимо жаловати и сести, гостем будете.
– Не до гостин, матушка полковница, – отвечал лысый. – По дельцу пришел к батюшке Семен Иванычу от воеводского товарища.
Все встрепенулись, переглянулись, снова оглядели пришедшего с ног до лысой маковки, как бы желая в его фигуре прочесть – на истыканном оспою лице и в бродячих глазах прочесть было нечего, – с добрыми или худыми вестями пришел он. На ветхом, иконном лике Палия только осталось прежнее выражение, – застывшая в решимость покорность всему, что бы ни случилось, потому что от судьбы, как и от жизни, уже ждать нечего. На мужественном лице пани матки, умягченном несчастиями, засветилась другая решимость – решимость борьбы, словно бы предстояло единоборство с туром или медведем. На молодом лице Семашки блеснула надежда. Добродушное лицо Охрима выразило то, что оно всегда выражало при виде москаля: «3 москалем дружи, а камень за пазухою держи».
– А по какому делу, Потапьич? – спросил Палий, немного помолчав.
– Да оно, дельце-то, батюшка Семен Иваныч, без касательства, безо всякого касательства… Привели к воеводе это ноне некоего якобы бродягу, сказать бы варнак, так нет, ноздри не рваны и клейм на ем никаких не обретается, а все сумнительный человек.
– Так какое ж мое к оному бродяге касательство есть?
– Не касательство, батюшка, не касательство, а единственно для-ради той причины, что оный реченный бродяга речию своею яве себя творит, якобы он черкасской породы.
– А как зовет себя?
– В том-то, батюшка Семен Иванович, и загогулинка: оный неведомый старец именует себя гетманом малороссийским и запорожским.
– Гетманом! – не утерпела пани матка. – Мазепою? Да як же так?
– Не ведаю, матушка… А древний, зело древен муж.
– И очи, як у василиска и аспида?
– Не видывал, матушка, ни аспида, ни василиска, а токмо в Священном Писании чел: «На аспида и василиска наступиши и попереши льва и змия…»
У пани матки глаза метали искры: воображаемый враг стоял перед нею. И Палий казался встревоженным.
– Дак что ж я-то до него и он до меня? – спросил он в раздумье.
– Может, батюшка Семен Иванович, признаешь его личину, кто таков есть он, – отвечал лысый, шмыгая косыми глазами по углам избы.
– Добре. Ходимо до воеводы.
– Он не у воеводы, батюшка, а в воеводской канцелярии, за приставы.
Палий стал собираться: накинул на себя кунтуш, привезенный женою из Украины, взял палку, шапку, перекрестился и направился к дверям.
– И я, Потапьич, с вами, – нерешительно сказала Палииха, – чи можно ж?
– Можно, можно, матушка, – отвечал подьячий. – Дело не секретное. Да у нас тута, в Сибири, не то что в Москве – у! Там звери, а не люди… В оно время, еще при блаженной памяти царе и великом государе всея Руси, при осударе Алексий Михайловиче, бывал я на Москве – соболей возил в казну, – там видел московские приказные порядки. И не приведи Господь Бог! – Оберут как липку, да и лапотки из тебя сплетут, да еще и наглумятся: «Лапоток-де ты, лапоточек плетеный, ковыряный…» А у нас, в Сибири, – рай, не житье: живи вольно, никто тебя перстом не тронет…
Охрим при этих словах даже плюнул с досады.
– Бывал я на Москве и при царевне Софей Алексеевне с дьяком Сибирского приказу Семишкуровым и оную царевну зрел, в ходах шла, – продолжал словоохотливый подьячий. – Красавица из себя! Лицом бела, станом полна, аки крупичата, матушка, и глаза с поволокой… И бывал я, государи мои, на Москве и раней того, блаженныя памяти при царе Алексий Михайловиче всея Руси: в ту пору еще вашего гетмана Демка Игнатенкова Многогрешного[63 - Многогрешный Демьян Игнатович (ум. не ранее 1696 г.) – один из руководителей освободительной войны Украины 1648–1654 гг. В 1668–1672 гг. гетман Левобережной Украины. В 1672 г. обвинен в связи с П. Д. Дорошенко и турецким султаном, сослан в Иркутск. Освобожден в 1688 г., в 1696 г. постригся в монахи.] к нам, в Сибирь, провожали, народу на Москве онаго, яко изменника, показывали, Охотным рядом водили, и Охотный ряд на его плевал и «гетманишкой» и всякими скверными и неподобными словами ругал… А у нас здесь не то, у нас рай…
Так проболтал подьячий всю дорогу, вплоть до воеводской канцелярии.
Войдя в канцелярию, Палий остановился: он поражен был тем, что увидел; голова его затряслась, все тело его дрожало, и он, казалось, готов был упасть…
– Кого я вижу, Боже Всесильный! – с ужасом проговорил он. – Ты ли это, Ивасю, друже мой искренний?
– Я, Божою милостию Иоанн Самуйлович, Малороссии обеих сторон Днепра и Запорогов великий гетьман! – отвечал тот важно, гордо поднимая голову.
Палий со слезами бросился обнимать его, бормоча:
– Боже Праведный! Боже! Ивасю мий!..
Странный вид представляла та неведомая личность, которая называла себя гетманом Самойловичем и которая так поразила Палия.
Это был очень ветхий, дряхлый, согнувшийся старик, хотя широкие плечи и кости, обтянутые желтой, испаленной солнцем кожею, обнаруживали, что это останки чего-то крепкого, коренастого, некогда мускулистого и мужественного. Высокий лоб, наполовину закрытый космами седых, спутавшихся волос; серые, с каким-то блуждающим огнем глаза, смотревшие из-под нависших, как у старой собаки, седых бровей; седые усы, длиннее, чем такая же седая борода, белыми жгутами спадавшие на грудь, прикрытую рубищем; мертвенно-худое лицо, оживленное быстрыми, гордыми, какими-то повелительными глазами, – все это вместе с лохмотьями и огромным чекмарем в правой руке невольно поражало.
При виде сцены, последовавшей за входом Палия, изумление приковало к месту и косого подьячего, который стоял у порога, растопырив руки и пальцы и не зная, на чем остановить свои бродячие глаза; и часового, стоявшего у дверей с старинною, ржавою до коричневости алебардою; и приземистого, с двойным подбородком и двойным животом на широко расставленных ногах воеводского товарища, вышедшего из другой двери и остановившегося с разинутым ртом… Тут же стояла Палииха и крестилась…
– Иван Самуйлович! Что с тобою приключилося? Ты живый еще, дяковати Бога! – говорил Палий, протягивая руки. – Обнимемся, друже!
Странный старик продолжал сидеть, держа чекмарь в правой руке.
– Обнимемся, обнимемся, Семене, – сказал он, наконец, спокойным голосом. – Подержи булаву! – обратился он повелительно к часовому, протягивая чекмарь. – Сей есть клейнот[64 - Клейнот (клейноты) – войсковые регалии власти запорожцев: булава, бунчук и прочее.] войсковой.
– Та негоже казати, пани матка. – И Охрим застыдился. – Се я, бачь, так, здуря.
– От дурный! А ще козак…
– Та я ничого, – оправдывался тот. – Он вони, батько, знают, – и он указал на Палия.
– Що таке, Охриме? – спросил тот. – Що я знаю?
– Та як Голота ляхам дорогу показував.
Палий тоже улыбнулся, и Охрим был рад, что развеселил старика, на лице у которого давно никто не видал улыбки. Это заинтересовало и Палииху.
– А як же ж вин показував? – спросила она мужа.
– Та по-козацьки… Ишов польский регимент пид Хвастовым, та не знав дороги. А Голота з козаками сино косив, стоги вершили, так вин на стогу стояв. Его й пытают ляхи: де дорога на Лабунь. А Голота й показав, де що таке, що ляхи его трохи не вбили за те, та други козака не дали…
Охрим не утерпел и опять покатился со смеху.
– Ото дурный! – смеялась и Палииха.
– Не вин дурный, – заметил старик, – а пан региментарь: вин до мене универсаль прислав, що Голота ему – «juxta suam barbariam rusticam, in honeste tergiversionem ostendit»[61 - В советах сельский варвар дал обнаружить бесчестную свою уклончивость (лат.).] – так в универсали и написав, мов Цесарь сенату.
– Ну вже я вашои бурсацькои речи не розумию, – сказала Палииха.
В это время в сенях что-то застучало и высморкалось. Все взглянули на дверь: кому бы там быть? Охрим схватился с лавки, подошел к двери, но дверь сама отворилась, и на пороге показалась лысая голова с остатками седых, болтающихся за ушами косичек. Вошедший был старик лет шестидесяти, с лицом, обезображенным оспою, с глазами, косившими так, что никто никогда не знал, куда они глядят и что видят. Одет он был в желтый нанковый кафтан, подпоясанный широким, как у попа, кушаком, в нанковые же грязно-зеленые штаны, убранные в сапоги из некрашеной юфти[62 - Юфть – кожа взрослого животного, коровы, свиньи, лошади, выделанная особым способом на дегте, применялась для пошива крепкой обуви и седел.]. Войдя в избу, он, по-видимому глядя в левый угол, перекрестился на правый, передний, где в углу, в золотой ризе, блистал образ Покрова Богородицы, увешанный узорчатыми полотенцами. Кланяясь образу, он сильно встряхивал косичками и то же делал, приветствуя хозяина и хозяйку.
– Мир дому сему и здравие, – сказала лысая голова, глядя не то в потолок, не то под лавку.
– Дякуем… благодаримо на добром слове, батюшка Потапьич, – поспешила Палииха. – Просимо жаловати и сести, гостем будете.
– Не до гостин, матушка полковница, – отвечал лысый. – По дельцу пришел к батюшке Семен Иванычу от воеводского товарища.
Все встрепенулись, переглянулись, снова оглядели пришедшего с ног до лысой маковки, как бы желая в его фигуре прочесть – на истыканном оспою лице и в бродячих глазах прочесть было нечего, – с добрыми или худыми вестями пришел он. На ветхом, иконном лике Палия только осталось прежнее выражение, – застывшая в решимость покорность всему, что бы ни случилось, потому что от судьбы, как и от жизни, уже ждать нечего. На мужественном лице пани матки, умягченном несчастиями, засветилась другая решимость – решимость борьбы, словно бы предстояло единоборство с туром или медведем. На молодом лице Семашки блеснула надежда. Добродушное лицо Охрима выразило то, что оно всегда выражало при виде москаля: «3 москалем дружи, а камень за пазухою держи».
– А по какому делу, Потапьич? – спросил Палий, немного помолчав.
– Да оно, дельце-то, батюшка Семен Иваныч, без касательства, безо всякого касательства… Привели к воеводе это ноне некоего якобы бродягу, сказать бы варнак, так нет, ноздри не рваны и клейм на ем никаких не обретается, а все сумнительный человек.
– Так какое ж мое к оному бродяге касательство есть?
– Не касательство, батюшка, не касательство, а единственно для-ради той причины, что оный реченный бродяга речию своею яве себя творит, якобы он черкасской породы.
– А как зовет себя?
– В том-то, батюшка Семен Иванович, и загогулинка: оный неведомый старец именует себя гетманом малороссийским и запорожским.
– Гетманом! – не утерпела пани матка. – Мазепою? Да як же так?
– Не ведаю, матушка… А древний, зело древен муж.
– И очи, як у василиска и аспида?
– Не видывал, матушка, ни аспида, ни василиска, а токмо в Священном Писании чел: «На аспида и василиска наступиши и попереши льва и змия…»
У пани матки глаза метали искры: воображаемый враг стоял перед нею. И Палий казался встревоженным.
– Дак что ж я-то до него и он до меня? – спросил он в раздумье.
– Может, батюшка Семен Иванович, признаешь его личину, кто таков есть он, – отвечал лысый, шмыгая косыми глазами по углам избы.
– Добре. Ходимо до воеводы.
– Он не у воеводы, батюшка, а в воеводской канцелярии, за приставы.
Палий стал собираться: накинул на себя кунтуш, привезенный женою из Украины, взял палку, шапку, перекрестился и направился к дверям.
– И я, Потапьич, с вами, – нерешительно сказала Палииха, – чи можно ж?
– Можно, можно, матушка, – отвечал подьячий. – Дело не секретное. Да у нас тута, в Сибири, не то что в Москве – у! Там звери, а не люди… В оно время, еще при блаженной памяти царе и великом государе всея Руси, при осударе Алексий Михайловиче, бывал я на Москве – соболей возил в казну, – там видел московские приказные порядки. И не приведи Господь Бог! – Оберут как липку, да и лапотки из тебя сплетут, да еще и наглумятся: «Лапоток-де ты, лапоточек плетеный, ковыряный…» А у нас, в Сибири, – рай, не житье: живи вольно, никто тебя перстом не тронет…
Охрим при этих словах даже плюнул с досады.
– Бывал я на Москве и при царевне Софей Алексеевне с дьяком Сибирского приказу Семишкуровым и оную царевну зрел, в ходах шла, – продолжал словоохотливый подьячий. – Красавица из себя! Лицом бела, станом полна, аки крупичата, матушка, и глаза с поволокой… И бывал я, государи мои, на Москве и раней того, блаженныя памяти при царе Алексий Михайловиче всея Руси: в ту пору еще вашего гетмана Демка Игнатенкова Многогрешного[63 - Многогрешный Демьян Игнатович (ум. не ранее 1696 г.) – один из руководителей освободительной войны Украины 1648–1654 гг. В 1668–1672 гг. гетман Левобережной Украины. В 1672 г. обвинен в связи с П. Д. Дорошенко и турецким султаном, сослан в Иркутск. Освобожден в 1688 г., в 1696 г. постригся в монахи.] к нам, в Сибирь, провожали, народу на Москве онаго, яко изменника, показывали, Охотным рядом водили, и Охотный ряд на его плевал и «гетманишкой» и всякими скверными и неподобными словами ругал… А у нас здесь не то, у нас рай…
Так проболтал подьячий всю дорогу, вплоть до воеводской канцелярии.
Войдя в канцелярию, Палий остановился: он поражен был тем, что увидел; голова его затряслась, все тело его дрожало, и он, казалось, готов был упасть…
– Кого я вижу, Боже Всесильный! – с ужасом проговорил он. – Ты ли это, Ивасю, друже мой искренний?
– Я, Божою милостию Иоанн Самуйлович, Малороссии обеих сторон Днепра и Запорогов великий гетьман! – отвечал тот важно, гордо поднимая голову.
Палий со слезами бросился обнимать его, бормоча:
– Боже Праведный! Боже! Ивасю мий!..
Странный вид представляла та неведомая личность, которая называла себя гетманом Самойловичем и которая так поразила Палия.
Это был очень ветхий, дряхлый, согнувшийся старик, хотя широкие плечи и кости, обтянутые желтой, испаленной солнцем кожею, обнаруживали, что это останки чего-то крепкого, коренастого, некогда мускулистого и мужественного. Высокий лоб, наполовину закрытый космами седых, спутавшихся волос; серые, с каким-то блуждающим огнем глаза, смотревшие из-под нависших, как у старой собаки, седых бровей; седые усы, длиннее, чем такая же седая борода, белыми жгутами спадавшие на грудь, прикрытую рубищем; мертвенно-худое лицо, оживленное быстрыми, гордыми, какими-то повелительными глазами, – все это вместе с лохмотьями и огромным чекмарем в правой руке невольно поражало.
При виде сцены, последовавшей за входом Палия, изумление приковало к месту и косого подьячего, который стоял у порога, растопырив руки и пальцы и не зная, на чем остановить свои бродячие глаза; и часового, стоявшего у дверей с старинною, ржавою до коричневости алебардою; и приземистого, с двойным подбородком и двойным животом на широко расставленных ногах воеводского товарища, вышедшего из другой двери и остановившегося с разинутым ртом… Тут же стояла Палииха и крестилась…
– Иван Самуйлович! Что с тобою приключилося? Ты живый еще, дяковати Бога! – говорил Палий, протягивая руки. – Обнимемся, друже!
Странный старик продолжал сидеть, держа чекмарь в правой руке.
– Обнимемся, обнимемся, Семене, – сказал он, наконец, спокойным голосом. – Подержи булаву! – обратился он повелительно к часовому, протягивая чекмарь. – Сей есть клейнот[64 - Клейнот (клейноты) – войсковые регалии власти запорожцев: булава, бунчук и прочее.] войсковой.