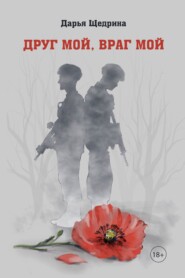По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Подмастерья бога
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я сказал музыку выруби! – Глеб повысил голос.
Но наглая девица и ухом не повела. Пришлось подойти и самому нажать на кнопку музыкального центра. Жалобно взвыв на последних нотах, музыка стихла.
– И чё?..
– Ни чё! – Глеб, мысленно уговаривая себя не кипятиться, склонился над девчонкой, опираясь рукой о спинку дивана. Та вызывающе вздёрнула подбородок. – Зой, ты понимаешь, что из-за твоей дикой выходки могла случиться беда, и не только с тобой? У Алексея Ивановича давление подскочило двести шестьдесят на сто двадцать! Ты понимаешь, что это значит? У него в любой момент при таком давлении мог лопнуть сосуд где-нибудь в мозге. А это инсульт. Зоя, у твоего отца мог случиться инсульт от переживаний! Ты это понимаешь?!
– Но не случился же, – легкомысленно пожала узкими плечиками девица.
– Ты когда прекратишь все эти выкрутасы?
– А тебе то какое дело? – вскинулась Зойка и вскочила с подлокотника. Всю её беззаботность и невозмутимость как ветром сдуло. – Ты вообще кто такой, а?! Ты по какому праву в мою семью лезешь, прихлебатель грёбаный?! Что тебе здесь нужно?!
Голубые глаза метали осколки льда, руки сжимались в кулачки. Почувствовав агрессию, Глеб перестал сдерживаться и перешёл на повышенные тона:
– Мне нужно, чтобы человек, которого я ценю, люблю и уважаю, мой учитель был жив и здоров и продолжал мирно и спокойно работать и лечить людей. А одна маленькая дрянь ежедневно ему душу выматывает, издевается над пожилым человеком!
– Да пошёл ты! – взвизгнула девица, сверля его ненавидящим взглядом. – Выметайся из моего дома! Не лезь к моему отцу! Это мой отец и я тебе его не отдам! Понял?!
– Тебе он отец, а мне – учитель, гуру, сэнсэй. И я не позволю тебе, малявка, довести его до могилы!
– И чё ты сделаешь?
От наглой улыбочки, растянувшей покрытые чёрной помадой губы, у Глеба поплыл перед глазами красный туман, а кулаки сжались до боли в суставах.
– Я тебя сейчас выпорю…
Глеб, стиснув зубы так, что под скулами заходили желваки, стал надвигаться на девицу. В её глазах мелькнул страх, но только на долю секунды. Она отскочила на пару шагов и выпалила:
– Только попробуй! Я скажу отцу, что ты меня пытался изнасиловать. Как думаешь, после такого тебе здесь откроют дверь? – и ехидно ухмыльнулась.
– Что-о-о?!! – взревел Глеб и метнулся к Зойке.
Та, взвизгнув, бросилась за спинку стоявшего у окна дивана, Глеб – следом. И они закружили, пытаясь испепелить друг друга взглядами.
– Ах ты, маленькая лгунья, дрянь паршивая! – рычал Глеб, стараясь достать девчонку, но та была юркой, как ящерица. – Совсем уморить отца решила? Да я шкуру с тебя спущу.
– А ты попробуй! Руки коротки, Склифосовский!
Вдруг Глеб сделал неожиданный выпад, схватил девчонку за руку и толкнул на диван. Она упала на живот и ткнулась лицом в диванную подушку. Парень прижал её одной рукой между лопатками, а второй рванул пряжку своего ремня. Звякнул металл, длинная полоса кожи, вжикнув, вылетела из шлиц. В следующую секунду зажатая в кулаке ременная петля взвилась вверх и со свистом опустилась на круглые ягодицы, покрытые плотной джинсовой тканью.
Зойка завизжала и задёргалась, лягаясь ногами и молотя руками по дивану. Но визг и крики глохли в подушке. А её мучитель со смаком, отводя душу раз за разом вытягивал ремень поперёк её бёдер.
«Господи, что я делаю?!» – молнией вспыхнуло в сознании, и Глеб ужаснулся бурлящей в нём ярости. Он судорожно втянул воздух и опустил руку. Сердце пульсировало в висках, дыхание сбилось так, будто он пробежал километровую дистанцию, а не отстегал по заднице нахалку и лгунью.
Почувствовав, что хватка ослабла, Зойка немедленно вывернулась из-под его руки и отскочила в сторону, растрёпанная, взъерошенная, с размазанной по лицу косметикой.
– Псих, садист, мне же больно! – выкрикнула она, прикрывая ладонями ягодицы.
– А отцу твоему, думаешь, не больно, когда ему учительница сообщает о твоих прогулах, или звонят из полиции? Не больно?!
Вдохнув поглубже, чтобы хоть немного успокоиться, он положил ремень на диван и сел сам. Зойка посмотрела расширенными от ужаса глазами на орудие экзекуции и немного попятилась, будто видела не простой кусок кожи, а живую змею.
– Дурак, я же теперь неделю сидеть не смогу! – в голосе её послышались жалобные нотки. Девчонка всхлипнула и размазала ладошкой текущие по щекам слёзы. – Козёл ты, Склифосовский.
– Ты меня достала, Зойка, господи, как же ты меня достала! Я ведь реально хотел тебя убить, чудовище ты маленькое. Руки до сих пор трясутся… – Он вытянул перед собой руки: пальцы мелко дрожали. – Вот что с тобой делать, зараза ты, Зойка?
Глеб поднял на девчонку глаза. Та жалась к подоконнику и всхлипывала.
– А ты убей меня, вообще убей! – выкрикнула Зойка с отчаянием, захлёбываясь слезами. – Я всё равно никому не нужна! Меня всё равно никто не любит! Убей, что б я больше не мучилась. Все тебе только спасибо скажут.
– Господи, что ты несёшь?..
По щекам её чёрными ручьями текли слёзы, от расплывшейся косметики лицо казалось жуткой маской, жуткой и очень несчастной. Глеб вытащил из кармана носовой платок и протянул девчонке. Та зыркнула на него, но платок взяла. И вдруг он каким-то другим зрением увидел перед собой не обнаглевшую от безнаказанности и избалованную девицу, а маленькую, очень одинокую, испуганную и несчастную девочку. Жалость и сострадание сдавили сердце.
– Дурочка ты глупая, Зойка, – произнёс Глеб уже спокойным, даже мягким голосом. – Тебе ли жаловаться! Наверное, нет на свете человека, которого любили бы больше, чем тебя. А ты: «Никому не нужна! Никто не любит»!
– Да что ты обо мне знаешь? – всхлипнула Зойка. – Знаешь, каково это жить с родителями – учёными? Зачем они вообще меня родили, если я им только мешала всю жизнь?! Им надо лекции читать, а я болею и в сад меня не отвести. Им на конгресс международный лететь надо, а я ногу сломала, упав с велосипеда. У них больные, консультации, операции, а я тут со своими проблемами и просьбами. Им же всегда было некогда. Им всегда работа была важней меня. В конце концов они меня бросили на произвол судьбы, на тётю Катю, самой себе предоставили, как только немного подросла. А мама вообще умерла, бросила меня окончательно.
Глеб с нескрываемой жалостью посмотрел на бедную дурочку.
– Ну, что ты несёшь, Зойка? Мама твоя умерла от рака, а не бросила тебя.
– Да я знаю, понимаю головой. А вот тут, – она постучала сжатым кулачком по груди, – всё кричит: «Бросила! Бросила!» И отец с тобой больше времени проводит, чем со мной. Он и тёте Кате говорил, что ты ему как сын. Я своими ушами слышала.
Глеб сокрушённо покачал головой и встал, подошёл к зарёванной девчонке. Рука сама потянулась к её вздрагивающему от слёз плечику, но замерла на середине пути, а потом вернулась в карман джинсов. Он только вздохнул.
– Да ты его ревнуешь ко мне, дурёха! Ах, Зойка, Зойка, если бы ты только знала, что значит на самом деле быть ненужным родителям…
– Можно подумать, ты знаешь…
– Я знаю, на собственной шкуре знаю. Я оказался побочным продуктом жизнедеятельности моих родителей – алкоголиков. Всё своё время они уделяли водке, а не мне. Даже не понятно, как я умудрился всё-таки вырасти. Отец, когда был относительно трезв, воспитывал меня тумаками и пинками. Мать регулярно забывала кормить. А про то, что в семь лет ребёнка надо отвести в школу вообще никто не вспомнил.
Глеб отвернулся, уставившись в окно на унылый двор, стараясь ни взглядом, ни голосом не выдать всколыхнувшиеся в душе эмоции.
– Они часто уходили в запой на неделю, на две. Я, как подрос, стал заранее готовиться к очередному запою, как собака, зарывая еду про запас. Прятал в укромные места то сухое печенье, то кусок хлеба. Чтобы потом, когда мать с отцом про меня забудут, достать затвердевший до деревянного состояния сухарь и съесть. Потом научился открывать дверной замок и днями болтался на улице, пробавлялся на помойке объедками.
А когда у отца случился приступ белой горячки, и он носился по квартире, пытаясь от кого-то спастись с дикими воплями, я выскочил на лестницу и забился в угол от страха. Потом приехали медики и скрутили папашу, увезли в психиатрическую лечебницу. Мать была в отрубе. А мне несказанно повезло: соседка из квартиры напротив, встревоженная всей этой вознёй, заметила меня и позвала к себе. Так в моей жизни появилась Апполинария Трифоновна. – Глеб грустно улыбнулся, вспоминая. – Я тогда в свои семь не мог выговорить такое сложное имя-отчество, но добрая старушка разрешила мне называть её просто «тётя Поля».
Тётя Поля меня потом часто забирала к себе, когда родители пьянствовали. Она меня кормила, поила и… читала мне вслух книжки, научила меня читать, считать. Фактически первый класс школы я прошёл под её руководством. А потом она сама попала в больницу, ведь была уже очень пожилой. И дверь в её маленькую уютную квартирку для меня закрылась насовсем, потому что тётя Поля из больницы больше не вернулась.
Соседи, озабоченные судьбой бесхозного ребёнка, сообщили в полицию, в отдел опеки. И однажды за мной пришли чужие строгие люди и увезли в интернат. С тех пор я не видел своих родителей. Потом, уже повзрослев, узнал из личного дела, что их по суду лишили родительских прав. Так что я оказался круглым сиротой при живых родителях. Вот такая вот история, Зойка.
Девочка смотрела на него круглыми голубыми глазищами и потрясённо молчала.
– Так что твоё детство, Зайка, с уверенностью можно назвать счастливым, несмотря на занятость родителей. Не гневи бога, не жалуйся, и заканчивай безобразничать. Отец у тебя – замечательный человек! Ты на него молиться должна, заботиться о нём, помогать, как нормальная любящая дочь. И я надеюсь, что теперь ты так и будешь делать. А не то… – он поднял с дивана свёрнутый петлёй ремень, для убедительности поднёс его к распухшему от слёз носу Зойки и стал заправлять обратно в пояс джинсов.
– Так ты что, выходит детдомовский? – шмыгнув носом, произнесла девочка. Она перестала плакать и широко распахнутыми глазами потрясённо уставилась на Глеба.