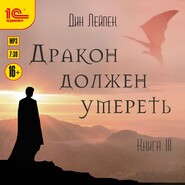По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дракон должен умереть. Книга I
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Джоан замотала головой.
– Я хотела, чтобы ты решил, что он пропал, – начала она, запинаясь. – И тогда ты бы начал его искать, и не нашел бы, и тогда, я думала, ты понял бы… – она всхлипнула. – Я залезла в котомку, но там было полно этих дурацких писем, и я сначала просто вытащила их… А потом… Я подумала…
– Что ты подумала?
– Я подумала, что, может, если я посмотрю, что в них, я узнаю, почему тебя так долго не было, – шепнула она.
– И что? Узнала? – спросил он жестко.
Она подняла взгляд, и ее глаза вспыхнули.
– О да! Узнала! Много всего интересного! О тебе и о… ней, – последнее слово Джоан прошипела язвительно, с вызовом глядя на Генри.
На мгновение он замер. А потом шагнул к Джоан и с силой вырвал письма – она покачнулась и упала назад, ударившись спиной о книжную полку. Она лежала, глядя на Генри широко раскрытыми глазами, а потом вскочила, с небывалой силой отшвырнула стол в сторону, попав ему при этом по ноге, и выбежала за дверь.
Генри услышал, как Сагр окликнул ее на улице, потом раздались шаги. Дверь распахнулась, и Сагр влетел в дом вместе с облаком морозного воздуха.
– Что случилось? Что, случилось, Генри?!
Он молчал. Сагр выругался и выскочил из дома.
Генри долго не двигался, глядя прямо перед собой. Потом он понял, что ему очень неудобно стоять, и с удивлением обнаружил, что ножка стола так и лежит у него на ноге. Генри поднял стол и стал собирать с пола рассыпавшиеся письма, от которых все еще пахло духами Мэри.
Сагр привел Джоан затемно. Она сразу скрылась за своей занавеской. Сагр принес ей туда кружку отвара, потом вернулся к столу, за которым сидел Генри, приготовил себе небольшой ужин, молча поел и тоже пошел спать, так и не сказав ни слова.
Наутро, за завтраком, к которому Джоан тоже не вышла, Генри решил положить всему этому конец.
– Надо уходить отсюда, пока все не замело, – бросил он нарочито небрежно.
Сагр молчал, глядя в свою миску. Генри повернулся в сторону занавески и услышал оттуда многообещающее шуршание. Занавеска отодвинулась, и Джоан подошла к ним. Генри вздрогнул, увидев ее лицо, но все же собрался с духом:
– Джо, – начал он сухо, одновременно пытаясь загладить свою вину и совершенно не собираясь этого делать. – Прости меня за… вчерашнее.
Она молчала.
– Нам пора отправляться в Тенгейл, – продолжил Генри слегка раздраженным тоном. Ему надоело их молчание.
Джоан смотрела на него в упор.
– Я никуда не пойду, – сказала она наконец монотонным, бесцветным голосом.
Генри поднял брови.
– Я никуда не пойду, – повторила Джоан куда-то в пустоту и снова скрылась за занавеской.
Генри посмотрел на Сагра, но тот продолжал молчать.
– Ну и отлично! – Генри швырнул ложку на стол. – Прекрасно! Значит, уйду один.
Спустя несколько часов Генри вышел из дома, на прощание хлопнув дверью так, чтобы они точно знали, насколько он зол.
* * *
Вернувшись в Тенгейл, Генри почувствовал, что не может находиться с матерью под одной крышей. Он поехал по знакомым, кочуя из одного замка в другой, от одних друзей и к другим. В конце зимы Генри снова встретил Мэри, и она обратилась к нему с такой нежностью и лаской, что на несколько недель Генри почувствовал себя совсем счастливым. И только спустя месяц он стал замечать, что каждое утро, просыпался ли он один, или в объятиях Мэри, у него возникает странное, неприятное чувство. Через несколько дней Генри вспомнил, что точно так же чувствовал себя в детстве, когда в чем-то был виноват и не мог набраться смелости, чтобы показаться родителям на глаза.
Возможно, дело было в том, что он спал с замужней женщиной? При всей своей прелести это не совсем соответствовало общепринятым нормам морали. Но в конце февраля Мэри снова уехала к мужу, а чувство так и не прошло. На этот раз Генри не пробовал удержать баронессу – ему этого не очень и хотелось. Чувство вины все усиливалось, и от этого любые приятные ощущения становились совсем не такими приятными. Кроме того, общество Мэри стало ему надоедать. Общение с ней, за исключением общения в постели, начало казаться Генри односторонним и скучным. Он перестал реагировать на ее игры в горячо-холодно, и Мэри стала все больше и больше к нему льнуть, что оказалось совсем не столь прекрасным, как он думал в начале их романа. Когда они наконец расстались, Генри почувствовал облегчение.
Однако Мэри уехала, а чувство вины по-прежнему не отпускало его, и стало окончательно ясно, что дело совсем не в ней.
Генри вернулся в Тенгейл. Леди Теннесси встретила его вполне дружелюбно, хотя была и не очень разговорчива. Дав ему прийти в себя, а снегу – окончательно растаять, она как-то за завтраком спросила его:
– Как там Джоан?
Генри долго смотрел на свою мать, а она – на него, и брови у нее были подняты точь-в-точь как у Генри, когда он ждал ответа на какой-нибудь каверзный вопрос.
Через два дня Генри уже был в пути.
* * *
Это было самое тяжелое путешествие в его жизни. Погода стояла прекрасная, пели птицы, светило солнце, журчали ручьи, но каждый шаг давался Генри с невероятным трудом. Он не знал, что скажет Джоан, когда придет. И он не знал, захочет ли она его слушать, даже если ему будет, что сказать.
Генри простоял под скалой куда больше времени, чем обычно, собираясь с духом, пока солнце не стало клониться к закату. Наконец он пнул себя мысленно в последний раз и начал долгий подъем вдоль отвесной каменной стены.
Его снова никто не встречал, но на этот раз Генри это не удивляло. Когда он вошел, в домике было очень тихо. Сагр раскладывал на столе остатки высушенных трав, Джоан сидела на полу спиной к входу, разбирая какие-то книги. Когда Генри вошел, осторожно прикрыв за собой дверь, Сагр поднял глаза на звук, а Джоан обернулась.
Какой-то малой толикой своего сознания Генри заметил, что Сагр молча прошел мимо него, снял с вешалки плащ и вышел на улицу. Но он не мог проследить за ним даже глазами, потому что все остальные его мысли заполнило лицо Джоан.
Он думал, что знает людей и мир. Он думал, что многое уже повидал и ко многому привык.
Но он никогда бы не мог предположить, что человек может так измениться за несколько месяцев.
Ее лицо было очень худым и очень бледным. Ореховые глаза над проявившимися скулами казались очень большими, а тонкие губы на фоне белой кожи – очень яркими. Она поднялась, пока он стоял, оглушенный и остолбеневший, и Генри увидел, что она еще выросла и сильно похудела. Длинное шерстяное платье, одно из тех, что связала ей сама леди Теннесси, еще больше подчеркивало эту худобу, делая девушку, стоявшую перед Генри, эфемерной. Да, именно девушку, потому что за эту зиму Джоан совсем перестала быть девочкой.
Но больше всего его поразила внутренняя перемена, которую он чувствовал, хотя Джоан продолжала стоять и молчать. В ней были тишина и отстраненное спокойствие, которое иногда он встречал разве что у своей матери, да еще у Сагра. Спокойствие и мудрость.
Она повернула руку, поправляя замявшийся рукав, и его внутренности вдруг резко скрутило. Длинный, неровный яркий шрам, идущий почти на всем протяжении руки от локтя до запястья. Она заметила его взгляд и повернула обе руки, сложив их перед собой. Он моргнул и снова посмотрел ей в глаза.
В голове повторялось глупым бессмысленным рефреном что-ты-натворил-что-ты-натворил-что-ты-натворил…
Он медленно подошел, не очень понимая, что делает, и еще немного постоял перед ней, а потом опустился на одно колено, взял одну искалеченную руку и поднес ее к губам. Рука казалась очень хрупкой. Некоторое время оба не двигались, потом наконец она освободила пальцы и положила ее ему на щеку, заставляя его поднять голову. Некоторое время она смотрела на него сверху вниз очень серьезно. Потом опустила руку и сказала мягко:
– Я приготовлю нам ужин.
Быть человеком
Генри остался.
Прошла неделя, невероятно спокойная, тихая, светлая неделя. Генри долго не мог понять, откуда взялось знакомое чувство, пока наконец не вспомнил с удивлением, что так уже было в детстве, когда он поправлялся после тяжелейшей кори. Было то же постепенное осознание мира заново, то же внимание к деталям, до того пропускаемым безо всякого интереса, то же стремление к покою, созерцанию, тишине. Именно тогда, в десять лет, случился его первый книжный запой, к величайшему удовольствию матери и некоторому недовольству отца, считавшему, что чтение – крайне неподходящее для мальчика занятие. С тех пор Генри и приобрел привычку ударяться поочередно то в разгул, то в интеллектуальное затворничество, позволяя обоим родителям радоваться за своего сына, если и не одновременно, то хотя бы в равном количестве. Со смертью отца необходимость в разгулах отпала, но сила привычки оказалась непреодолимой.
– Я хотела, чтобы ты решил, что он пропал, – начала она, запинаясь. – И тогда ты бы начал его искать, и не нашел бы, и тогда, я думала, ты понял бы… – она всхлипнула. – Я залезла в котомку, но там было полно этих дурацких писем, и я сначала просто вытащила их… А потом… Я подумала…
– Что ты подумала?
– Я подумала, что, может, если я посмотрю, что в них, я узнаю, почему тебя так долго не было, – шепнула она.
– И что? Узнала? – спросил он жестко.
Она подняла взгляд, и ее глаза вспыхнули.
– О да! Узнала! Много всего интересного! О тебе и о… ней, – последнее слово Джоан прошипела язвительно, с вызовом глядя на Генри.
На мгновение он замер. А потом шагнул к Джоан и с силой вырвал письма – она покачнулась и упала назад, ударившись спиной о книжную полку. Она лежала, глядя на Генри широко раскрытыми глазами, а потом вскочила, с небывалой силой отшвырнула стол в сторону, попав ему при этом по ноге, и выбежала за дверь.
Генри услышал, как Сагр окликнул ее на улице, потом раздались шаги. Дверь распахнулась, и Сагр влетел в дом вместе с облаком морозного воздуха.
– Что случилось? Что, случилось, Генри?!
Он молчал. Сагр выругался и выскочил из дома.
Генри долго не двигался, глядя прямо перед собой. Потом он понял, что ему очень неудобно стоять, и с удивлением обнаружил, что ножка стола так и лежит у него на ноге. Генри поднял стол и стал собирать с пола рассыпавшиеся письма, от которых все еще пахло духами Мэри.
Сагр привел Джоан затемно. Она сразу скрылась за своей занавеской. Сагр принес ей туда кружку отвара, потом вернулся к столу, за которым сидел Генри, приготовил себе небольшой ужин, молча поел и тоже пошел спать, так и не сказав ни слова.
Наутро, за завтраком, к которому Джоан тоже не вышла, Генри решил положить всему этому конец.
– Надо уходить отсюда, пока все не замело, – бросил он нарочито небрежно.
Сагр молчал, глядя в свою миску. Генри повернулся в сторону занавески и услышал оттуда многообещающее шуршание. Занавеска отодвинулась, и Джоан подошла к ним. Генри вздрогнул, увидев ее лицо, но все же собрался с духом:
– Джо, – начал он сухо, одновременно пытаясь загладить свою вину и совершенно не собираясь этого делать. – Прости меня за… вчерашнее.
Она молчала.
– Нам пора отправляться в Тенгейл, – продолжил Генри слегка раздраженным тоном. Ему надоело их молчание.
Джоан смотрела на него в упор.
– Я никуда не пойду, – сказала она наконец монотонным, бесцветным голосом.
Генри поднял брови.
– Я никуда не пойду, – повторила Джоан куда-то в пустоту и снова скрылась за занавеской.
Генри посмотрел на Сагра, но тот продолжал молчать.
– Ну и отлично! – Генри швырнул ложку на стол. – Прекрасно! Значит, уйду один.
Спустя несколько часов Генри вышел из дома, на прощание хлопнув дверью так, чтобы они точно знали, насколько он зол.
* * *
Вернувшись в Тенгейл, Генри почувствовал, что не может находиться с матерью под одной крышей. Он поехал по знакомым, кочуя из одного замка в другой, от одних друзей и к другим. В конце зимы Генри снова встретил Мэри, и она обратилась к нему с такой нежностью и лаской, что на несколько недель Генри почувствовал себя совсем счастливым. И только спустя месяц он стал замечать, что каждое утро, просыпался ли он один, или в объятиях Мэри, у него возникает странное, неприятное чувство. Через несколько дней Генри вспомнил, что точно так же чувствовал себя в детстве, когда в чем-то был виноват и не мог набраться смелости, чтобы показаться родителям на глаза.
Возможно, дело было в том, что он спал с замужней женщиной? При всей своей прелести это не совсем соответствовало общепринятым нормам морали. Но в конце февраля Мэри снова уехала к мужу, а чувство так и не прошло. На этот раз Генри не пробовал удержать баронессу – ему этого не очень и хотелось. Чувство вины все усиливалось, и от этого любые приятные ощущения становились совсем не такими приятными. Кроме того, общество Мэри стало ему надоедать. Общение с ней, за исключением общения в постели, начало казаться Генри односторонним и скучным. Он перестал реагировать на ее игры в горячо-холодно, и Мэри стала все больше и больше к нему льнуть, что оказалось совсем не столь прекрасным, как он думал в начале их романа. Когда они наконец расстались, Генри почувствовал облегчение.
Однако Мэри уехала, а чувство вины по-прежнему не отпускало его, и стало окончательно ясно, что дело совсем не в ней.
Генри вернулся в Тенгейл. Леди Теннесси встретила его вполне дружелюбно, хотя была и не очень разговорчива. Дав ему прийти в себя, а снегу – окончательно растаять, она как-то за завтраком спросила его:
– Как там Джоан?
Генри долго смотрел на свою мать, а она – на него, и брови у нее были подняты точь-в-точь как у Генри, когда он ждал ответа на какой-нибудь каверзный вопрос.
Через два дня Генри уже был в пути.
* * *
Это было самое тяжелое путешествие в его жизни. Погода стояла прекрасная, пели птицы, светило солнце, журчали ручьи, но каждый шаг давался Генри с невероятным трудом. Он не знал, что скажет Джоан, когда придет. И он не знал, захочет ли она его слушать, даже если ему будет, что сказать.
Генри простоял под скалой куда больше времени, чем обычно, собираясь с духом, пока солнце не стало клониться к закату. Наконец он пнул себя мысленно в последний раз и начал долгий подъем вдоль отвесной каменной стены.
Его снова никто не встречал, но на этот раз Генри это не удивляло. Когда он вошел, в домике было очень тихо. Сагр раскладывал на столе остатки высушенных трав, Джоан сидела на полу спиной к входу, разбирая какие-то книги. Когда Генри вошел, осторожно прикрыв за собой дверь, Сагр поднял глаза на звук, а Джоан обернулась.
Какой-то малой толикой своего сознания Генри заметил, что Сагр молча прошел мимо него, снял с вешалки плащ и вышел на улицу. Но он не мог проследить за ним даже глазами, потому что все остальные его мысли заполнило лицо Джоан.
Он думал, что знает людей и мир. Он думал, что многое уже повидал и ко многому привык.
Но он никогда бы не мог предположить, что человек может так измениться за несколько месяцев.
Ее лицо было очень худым и очень бледным. Ореховые глаза над проявившимися скулами казались очень большими, а тонкие губы на фоне белой кожи – очень яркими. Она поднялась, пока он стоял, оглушенный и остолбеневший, и Генри увидел, что она еще выросла и сильно похудела. Длинное шерстяное платье, одно из тех, что связала ей сама леди Теннесси, еще больше подчеркивало эту худобу, делая девушку, стоявшую перед Генри, эфемерной. Да, именно девушку, потому что за эту зиму Джоан совсем перестала быть девочкой.
Но больше всего его поразила внутренняя перемена, которую он чувствовал, хотя Джоан продолжала стоять и молчать. В ней были тишина и отстраненное спокойствие, которое иногда он встречал разве что у своей матери, да еще у Сагра. Спокойствие и мудрость.
Она повернула руку, поправляя замявшийся рукав, и его внутренности вдруг резко скрутило. Длинный, неровный яркий шрам, идущий почти на всем протяжении руки от локтя до запястья. Она заметила его взгляд и повернула обе руки, сложив их перед собой. Он моргнул и снова посмотрел ей в глаза.
В голове повторялось глупым бессмысленным рефреном что-ты-натворил-что-ты-натворил-что-ты-натворил…
Он медленно подошел, не очень понимая, что делает, и еще немного постоял перед ней, а потом опустился на одно колено, взял одну искалеченную руку и поднес ее к губам. Рука казалась очень хрупкой. Некоторое время оба не двигались, потом наконец она освободила пальцы и положила ее ему на щеку, заставляя его поднять голову. Некоторое время она смотрела на него сверху вниз очень серьезно. Потом опустила руку и сказала мягко:
– Я приготовлю нам ужин.
Быть человеком
Генри остался.
Прошла неделя, невероятно спокойная, тихая, светлая неделя. Генри долго не мог понять, откуда взялось знакомое чувство, пока наконец не вспомнил с удивлением, что так уже было в детстве, когда он поправлялся после тяжелейшей кори. Было то же постепенное осознание мира заново, то же внимание к деталям, до того пропускаемым безо всякого интереса, то же стремление к покою, созерцанию, тишине. Именно тогда, в десять лет, случился его первый книжный запой, к величайшему удовольствию матери и некоторому недовольству отца, считавшему, что чтение – крайне неподходящее для мальчика занятие. С тех пор Генри и приобрел привычку ударяться поочередно то в разгул, то в интеллектуальное затворничество, позволяя обоим родителям радоваться за своего сына, если и не одновременно, то хотя бы в равном количестве. Со смертью отца необходимость в разгулах отпала, но сила привычки оказалась непреодолимой.