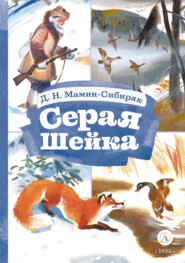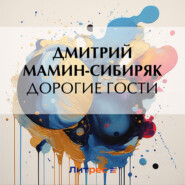По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Любовь куклы
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А новых братьев принимают в обитель? – спросил Половецкий.
– А этого я уж не могу знать. Все зависит у нас от игумена… Так приезжают и живут. Только больше месяца оставаться игумен не позволяет.
Когда вечером пароход подходил уже к Бобыльску, Половецкий спросил брата Павлина:
– А если я приду к вам в обитель, меня примут?
– Даже очень хорошо примут… Игумен будет рад.
– Вы будете ночевать в городе?
– Придется… Одному-то ночью как-то неудобно идти.
– Пойдемте вместе.
Брат Павлин недоверчиво посмотрел на Половецкого и кротко согласился.
Когда Половецкий выходил с парохода, на сходнях его догнал повар Егорушка и, задыхаясь, проговорил:
– А, ведь, Павел-то Митрич, г. Половецкий, померши… Ах, что только и будет!..
– Какой Павел Митрич?
– А Присыпкин… Какой человек-то был!..
– Какой человек?
– А наш, значит, природный исправник… Семнадцать лет выслужил. Отец родной был…
– А как вы узнали мого фамилию?
– Помилуйте, кто-же вас не знает… Мужички медвежатники все обсказали. Да… Ах, Павел Митрич, Павел Митрич…
Половецкому было очень неприятно, что его фамилия была открыта. Егорушка страдал старческой болтливостью и, наверно, расскажет всему пароходу.
– Егорушка, вы молчите, что видели меня, – просил он.
– Помилуйте, барин, да из меня слова-то топором не вырубишь… Так, с языка сорвалось. Ах, Павел Митрич…
В подтверждение своих слов Егорушка бросился на пароход, розыскал «председателя» Ивана Павлыча и рассказал ему все о Половецком, с необходимыми прибавлениями:
– В обитель они пошли с братом Павлином… Надо полагать, пострижение хотят принять.
– Половецкий… да, Половецкий… гм… – тянул из себя слова Иван Павлыч. – Фамилия известная… А как его зовут?
– А вот имя-то я и забыл… Михайлой…
– Михаил Петрович?
– Вот, вот… В кирасирах служили, а сейчас с котомочкой изволят идти на манер странника… А Павел то Митрич?
– Да, приказал долго жить…
– Какой человек был, какой человек…
– Да, порядочный негодяй, – отрезал Иван Павлыч, ковыряя в зубах.
Егорушка даже отступил в ужасе, точно «председатель» в него выстрелил, а потом проговорил:
– Действительно, оно того… да… Можно сказать, даже совсем вредный был человек, не тем будь помянут.
Половецкий и брат Павлин остановились переночевать в Бобыльске на постоялом дворе. И здесь все было наполнено тенью Павла Митрича Присыпкина. Со всех сторон сыпались всевозможные воспоминания, пересуды и соображения.
– И что только будет… – повторял рыжебородый дворник, как повар Егорушка.
Проезжого нарола набралось много, и негде было яблоку упасть. Брат Павлин устроил место Половецкому на лавке, а сам улегся на полу.
– Вам это непривычно по полу валяться, а мы – люди привычные, – объяснял он, подмащивая в головы свою дорожную котомку. – Что-то у нас теперь в обители делается… Ужо завтра мы утречком пораньше двинемся, чтобы по холодку пройти. Как раз к ранней обедне поспеем…
Половецкий почти не спал опять целую ночь. В избе было душно. А тут еще дверь постоянно отворялась. Входили и выходили приезжие. На дворе кто-то ругался. Ржали лошади, просившие пить. Все это для Половецкого было новым, неизвестным, и он чувствовал себя таким лишним и чужим, как выдернутый зуб. Тут кипели свои интересы, которых он в качестве барина не понимал. На него никто не обращал внимания. Лежа с открытыми глазами, Половецкий старался представить себе будущую обитель, сурового игумена, строптивца Ираклия, весь уклад строгой обительской жизни. Он точно прислушивался к самому себе и проверял менявшееся настроение. Это был своего рода пульс, с своими повышениями и понижениями. И опять выплывала застарелая тоска, точно с ним рядом сидел его двойник, от которого он не мог избавиться, как нельзя избавиться от собственной тени.
Половецкий не знал, спал он или нет, когда брат Павлин поднялся утром и начал торопливо собираться в дорогу.
– Ох, не опоздать-бы к обедне… – думал он вслух. – Брат Ираклий вот какое послушание задаст…
– Ведь он не игумен, – заметил Половецкий.
– Он и игумну спуску не дает… Особенный человек. Так смотреть, так злее его нет и человека на свете. А он добрый. Чуть что и заплачет. Когда меня провожал – прослезился… А что я ему? Простец, прямо человек от пня…
Не смотря на раннее утро, город уже начинал просыпаться. Юркое мещанство уже шныряло по улицам, выискивая свой дневной труд. Брат Павлин показал царский дуб и мост, с которого Иван Грозный бросал бобыльцев в реку.
– Несчетное множество народу погубил, – объяснял он со вздохом. – Года с три город совсем пустой стоял, а потом опять заселился.
Миновав грязное даже в жаркую пору предместье, они пошли по пыльному, избитому тракту. Кругом не было видно ни одного деревца. Сказывался русский человек, который истребляет лес до последнего кустика. Тощий выгон, на котором паслись тощие городские коровенки, кое-где тощие пашни. Брат Павлин шагал какой-то шмыгающей походкой, сгорбившись и размахивая длинными руками. Он теперь казался Половецкому совсем другим человеком, чем на пароходе, как кажутся в поле или в лесу совсем другими лошади и собаки, которых глаз привык видеть в их домашней обстановке.
– А вот и наша монастырская повертка, – радостно проговорил брат Павлин, когда от тракта отделилась узенькая проселочная дорожка. – Половину дороги прошли…
Впереди виднелся тощий болотный лесок с чахлыми березками, елочками и вербами. Почва заметно понижалась. Чувствовалась близость болота. Луговая трава сменилась жесткой осокой. Пейзаж был незавидный, но он нравился Половецкому, отвечая его настроению. Деревья казались ему живыми. Ведь никакое искусство не может создать вот такую чахлую березку, бесконечно красивую даже в своем убожестве. В ней чувствовалось что-то страдающее, неудовлетворенное… Тощая почва, как грудь голодной матери, не давала питания. Ведь у такой голодной березки есть своя физиономия, и она смотрит на вас каждым своим бледным листочком, тянется к вам своими исхудалыми, заморенными веточками и тихо жалуется, когда ее всколыхнет шальной ветерок. И сколько в этом родного, сколько родной русской тоски… А бледные, безымянные цветики, которые пробивались из жесткой болотной травы, как заморенные дети… Ведь и в душе человека растет такая жесткая трава, с той разницей, что в природе все справедливо, до последней, самой ничтожной былинки, а человек несет в своей душе неправду.
Чахлый лесок скоро сменился болотными зарослями. Дорожка виляла по сухим местам, перебегала по деревянным мостикам и вела вглубь разроставшегося болота.
– Слава Богу! – проговорил брат Павлин, откладывая широкий кресть.
– Что такое?
– А звонят к заутрени…
Половецкому нужно было остановиться, чтобы расслышать тонкий певучий звук монастырского колокола, протянувшийся над этим болотом. Это был медный голос, который звал к себе… Половецкий тоже перекрестился, не отдавая себе отчета в этом движении.
– А этого я уж не могу знать. Все зависит у нас от игумена… Так приезжают и живут. Только больше месяца оставаться игумен не позволяет.
Когда вечером пароход подходил уже к Бобыльску, Половецкий спросил брата Павлина:
– А если я приду к вам в обитель, меня примут?
– Даже очень хорошо примут… Игумен будет рад.
– Вы будете ночевать в городе?
– Придется… Одному-то ночью как-то неудобно идти.
– Пойдемте вместе.
Брат Павлин недоверчиво посмотрел на Половецкого и кротко согласился.
Когда Половецкий выходил с парохода, на сходнях его догнал повар Егорушка и, задыхаясь, проговорил:
– А, ведь, Павел-то Митрич, г. Половецкий, померши… Ах, что только и будет!..
– Какой Павел Митрич?
– А Присыпкин… Какой человек-то был!..
– Какой человек?
– А наш, значит, природный исправник… Семнадцать лет выслужил. Отец родной был…
– А как вы узнали мого фамилию?
– Помилуйте, кто-же вас не знает… Мужички медвежатники все обсказали. Да… Ах, Павел Митрич, Павел Митрич…
Половецкому было очень неприятно, что его фамилия была открыта. Егорушка страдал старческой болтливостью и, наверно, расскажет всему пароходу.
– Егорушка, вы молчите, что видели меня, – просил он.
– Помилуйте, барин, да из меня слова-то топором не вырубишь… Так, с языка сорвалось. Ах, Павел Митрич…
В подтверждение своих слов Егорушка бросился на пароход, розыскал «председателя» Ивана Павлыча и рассказал ему все о Половецком, с необходимыми прибавлениями:
– В обитель они пошли с братом Павлином… Надо полагать, пострижение хотят принять.
– Половецкий… да, Половецкий… гм… – тянул из себя слова Иван Павлыч. – Фамилия известная… А как его зовут?
– А вот имя-то я и забыл… Михайлой…
– Михаил Петрович?
– Вот, вот… В кирасирах служили, а сейчас с котомочкой изволят идти на манер странника… А Павел то Митрич?
– Да, приказал долго жить…
– Какой человек был, какой человек…
– Да, порядочный негодяй, – отрезал Иван Павлыч, ковыряя в зубах.
Егорушка даже отступил в ужасе, точно «председатель» в него выстрелил, а потом проговорил:
– Действительно, оно того… да… Можно сказать, даже совсем вредный был человек, не тем будь помянут.
Половецкий и брат Павлин остановились переночевать в Бобыльске на постоялом дворе. И здесь все было наполнено тенью Павла Митрича Присыпкина. Со всех сторон сыпались всевозможные воспоминания, пересуды и соображения.
– И что только будет… – повторял рыжебородый дворник, как повар Егорушка.
Проезжого нарола набралось много, и негде было яблоку упасть. Брат Павлин устроил место Половецкому на лавке, а сам улегся на полу.
– Вам это непривычно по полу валяться, а мы – люди привычные, – объяснял он, подмащивая в головы свою дорожную котомку. – Что-то у нас теперь в обители делается… Ужо завтра мы утречком пораньше двинемся, чтобы по холодку пройти. Как раз к ранней обедне поспеем…
Половецкий почти не спал опять целую ночь. В избе было душно. А тут еще дверь постоянно отворялась. Входили и выходили приезжие. На дворе кто-то ругался. Ржали лошади, просившие пить. Все это для Половецкого было новым, неизвестным, и он чувствовал себя таким лишним и чужим, как выдернутый зуб. Тут кипели свои интересы, которых он в качестве барина не понимал. На него никто не обращал внимания. Лежа с открытыми глазами, Половецкий старался представить себе будущую обитель, сурового игумена, строптивца Ираклия, весь уклад строгой обительской жизни. Он точно прислушивался к самому себе и проверял менявшееся настроение. Это был своего рода пульс, с своими повышениями и понижениями. И опять выплывала застарелая тоска, точно с ним рядом сидел его двойник, от которого он не мог избавиться, как нельзя избавиться от собственной тени.
Половецкий не знал, спал он или нет, когда брат Павлин поднялся утром и начал торопливо собираться в дорогу.
– Ох, не опоздать-бы к обедне… – думал он вслух. – Брат Ираклий вот какое послушание задаст…
– Ведь он не игумен, – заметил Половецкий.
– Он и игумну спуску не дает… Особенный человек. Так смотреть, так злее его нет и человека на свете. А он добрый. Чуть что и заплачет. Когда меня провожал – прослезился… А что я ему? Простец, прямо человек от пня…
Не смотря на раннее утро, город уже начинал просыпаться. Юркое мещанство уже шныряло по улицам, выискивая свой дневной труд. Брат Павлин показал царский дуб и мост, с которого Иван Грозный бросал бобыльцев в реку.
– Несчетное множество народу погубил, – объяснял он со вздохом. – Года с три город совсем пустой стоял, а потом опять заселился.
Миновав грязное даже в жаркую пору предместье, они пошли по пыльному, избитому тракту. Кругом не было видно ни одного деревца. Сказывался русский человек, который истребляет лес до последнего кустика. Тощий выгон, на котором паслись тощие городские коровенки, кое-где тощие пашни. Брат Павлин шагал какой-то шмыгающей походкой, сгорбившись и размахивая длинными руками. Он теперь казался Половецкому совсем другим человеком, чем на пароходе, как кажутся в поле или в лесу совсем другими лошади и собаки, которых глаз привык видеть в их домашней обстановке.
– А вот и наша монастырская повертка, – радостно проговорил брат Павлин, когда от тракта отделилась узенькая проселочная дорожка. – Половину дороги прошли…
Впереди виднелся тощий болотный лесок с чахлыми березками, елочками и вербами. Почва заметно понижалась. Чувствовалась близость болота. Луговая трава сменилась жесткой осокой. Пейзаж был незавидный, но он нравился Половецкому, отвечая его настроению. Деревья казались ему живыми. Ведь никакое искусство не может создать вот такую чахлую березку, бесконечно красивую даже в своем убожестве. В ней чувствовалось что-то страдающее, неудовлетворенное… Тощая почва, как грудь голодной матери, не давала питания. Ведь у такой голодной березки есть своя физиономия, и она смотрит на вас каждым своим бледным листочком, тянется к вам своими исхудалыми, заморенными веточками и тихо жалуется, когда ее всколыхнет шальной ветерок. И сколько в этом родного, сколько родной русской тоски… А бледные, безымянные цветики, которые пробивались из жесткой болотной травы, как заморенные дети… Ведь и в душе человека растет такая жесткая трава, с той разницей, что в природе все справедливо, до последней, самой ничтожной былинки, а человек несет в своей душе неправду.
Чахлый лесок скоро сменился болотными зарослями. Дорожка виляла по сухим местам, перебегала по деревянным мостикам и вела вглубь разроставшегося болота.
– Слава Богу! – проговорил брат Павлин, откладывая широкий кресть.
– Что такое?
– А звонят к заутрени…
Половецкому нужно было остановиться, чтобы расслышать тонкий певучий звук монастырского колокола, протянувшийся над этим болотом. Это был медный голос, который звал к себе… Половецкий тоже перекрестился, не отдавая себе отчета в этом движении.