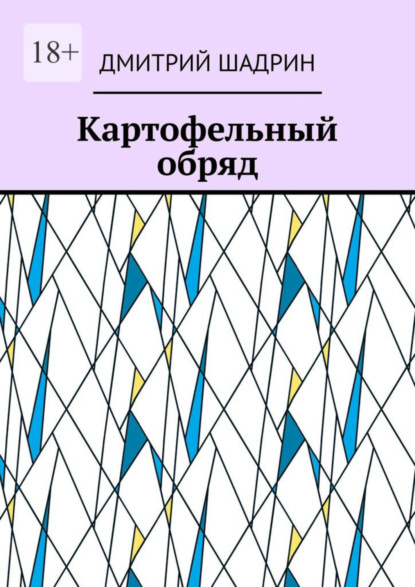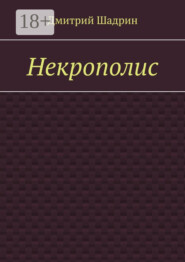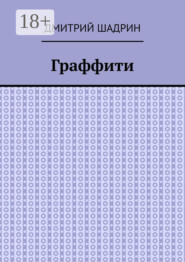По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Картофельный обряд
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Притом! Я музыкант, а не… – он запнулся, ища слово поувесистей и задыхаясь, – Не батрак какой-нибудь.
– А я с твоей мамой выходит какие-нибудь? – усмехнулась Ева.
Савелий посмотрел на мать, потом на жену так, словно они были виноваты перед ним, но не хотят ни себе, ни тем более ему в этом признаваться. Он раздраженно махнул рукой.
– Да что с тобой говорить, – он направился в дом, топча рассаду, цветы и сердито бормоча себе под нос. И вот он поднялся на веранду и исчез за дверью.
– И без него обойдемся, – вздохнула Ева.
Анастасия Ростиславовна одобрительно кивнула.
– Пусть отдохнет. А то он весь издергался, – сказала мать Савелия, сочувственно поглядев на веранду.
Нахмурившись и покачав головой, Ева промолчала и принялась за работу, сосредоточенно и споро выкапывая и закапывая лунки.
Внезапно радио смолкло. В доме визгливо зарыдала скрипка. Это Савелий взялся за Гайдна.
– Ну, началось, – передернувшись, Ева поморщилась и закопала лунку так поспешно, словно в ней вместо клубня, были жалобные всхлипы скрипки.
А ведь было время, когда Еве нравилось, как Савелий играет. Ева прислушивалась к его скрипке. И та утешала и подбадривала: «Все еще сложится. Надо только набраться терпения». И Ева надеялась, что Савелий еще себя покажет. И они наконец-то заживут по-человечески. Но потом с Овером все стало ясно. Теперь, чтобы не играл Савелий, скрипка только стонала и выла: «Дальше ехать некуда! Все кончено!» Ева перестала притворяться, что ей нравиться классика и вернулась к Лепсу, Киркорову и Билану. «Рюмка водки на столе» была милее всех квартетов Моцарта.
Ева сердито посмотрела на дом, где рыдала скрипка, которую терзал Савелий. Гайдн запнулся, словно испугавшись взгляда Евы. Савелий попытался продолжить, но Гайдн – ни в какую. Скрипка болезненно взвизгнула и смолкла. Из дома выскочил Савелий с перекошенным бледным лицом, уперев локти в живот и согнув руки. Дрожащие ладони и растопыренные скрюченные пальцы он повернул к небу, словно пытаясь определить, идет ли дождь.
– Что с тобой? – встревожилась мать.
– Что и следовало ожидать! – в отчаянье воскликнул Савелий.– От лопаты мои пальцы совсем одеревенели. Это не пальцы, а какие-то… клубни. Вот как я буду завтра выступать в филармонии? А? Будь проклята ваша картошка!
– Не говори так, – мать побледнела.– Она же обидится.
Савелий что-то буркнул и метнулся в дом.
Мать Савелия посмотрела на Еву, словно ища у нее поддержки. Ева снисходительно и успокаивающе улыбнулась.
– Не обращайте внимания, – сказала Ева. – Вечно он из мухи делает слона.
Мать печально вздохнула и покачала головой, мол, кому, как не ей, знать об этом.
– Ну что продолжим? – Ева одним махом выкопала лунку. Мать Овера бросила туда яичную скорлупу и картофелину.
– Картошка-картошка не дай нам протянуть ножки. Вырасти большая, животы наши ублажая, – пробормотала Анастасия Ростиславовна.
– Аминь, – сказала Ева и закопала ямку.
15
Овер – скрипка, Наталья Рослик – скрипка Максимильян Плохово – альт, Анна Бауфал – виолончель исполняли струнный квартет №2 опус 76 Гайдна. Слушатели сидели в шахматном порядке и изредка обстреливали сцену филармонии глухим покашливаньем, словно собираясь что-то сказать, кому-то возразить. Тому же Гайдну что ли. Овер невольно прислушивался, и напряженно ждал этот кашель.
Взвинченный, весь на нервах Овер боялся сфальшивить, случайно схватить не ту ноту. От страха и перенапряжения он ничего не чувствовал. Савелию все еще казалось, что вместо пальцев у него картофельные клубни. А вместо скрипки – штыковая лопата…
Вот опять глухо кашлянули. Овер содрогнулся и посмотрел в зал. Вместо сумрачных рядов кресел ему померещились картофельные грядки. Оверу захотелось вскочить и убежать, бросив Гайдна на произвол судьбы. Но Савелий стиснул зубы и остался на сцене.
В третьей части опуса на Овера опять что-то нашло и, схватив за горло, принялось душить. В глазах потемнело. Меркнущая сцена стала сжиматься. Потолок падал, смыкались стены. Овер как будто бы заиграл на своих перетянутых нервах. Они звенели. Того гляди оборвутся. На лбу помертвевшего Овера проступила холодная испарина. Сцена и зал дернулись и закружились. Он покачнулся, но все-таки удержался на стуле и продолжил машинально, как заведенный, водить смычком по струнам.
Скрипачка Рослик толкнула Овера сердитым взглядом, мол, ты чего совсем что ли. Виолончелистка Бауфал посмотрела на Савелия с испугом, а Плохово сочувствующе и понимающе, как будто и сам когда-то испытал такое. Музыканты, слушатели и, кажется даже сам незримый, но такой оглушительный Гайдн уставились на Овера. Сковали и подперли взглядами.
«Что я здесь забыл?» Овер посмотрел в настороженный сумрак так, будто это был не зал филармонии, а сотки, которые предстоит заполнить картофельными лунками. «Когда другие гребут миллиарды, я терзаю скрипку и огребаю отчаянье с громким ужасом». Тут же вспомнив барочный особняк Кедрова, роскошный пир, Оверу опять захотелось вскочить со стула и разбить скрипку о пюпитр. Но вместо этого он с обреченным видом продолжил играть Гайдна.
Наконец концерт закончился. Зал скупо затрещал сухими сучьями и валежником аплодисментов.
– Ты чем это вчера занимался? – подозрительно глядя на Овера, спросила Рослик за кулисами. На творожных щеках скрипачки проступили и расплылись красные пятна.
– Картошку сажал, – Овер рукавом черного сюртука отер холодный потный лоб.
– Картошку? Знаем мы эту картошку! – сердито усмехнулась Рослик.
– Может, хватит уже докапываться? – осадила ее виолончелистка. Скрипачка Рослик вспыхнула, ее лицо исказилось, пятна на щеках стали отчетливыми багряными. – У Вас, наверное, давление? – мягко спросила Бауфал Овера.
– Давление у него, – фыркнула Рослик и точно лошадь тряхнула головой.
Бауфал так посмотрела на Рослик, словно сейчас схватит виолончель и огреет ей скрипачку.
– Вам надо чай с лимонником выпить, – сказала Бауфал Оверу.
Тот виновато забормотал, точно оправдываясь, и стал растерянно озираться, словно ища что-то. Может быть, самого себя.
– Я знаю, что ему надо выпить, – улыбнулся Плохово и ободряюще похлопал Овера по плечу.
Овер вздрогнул и с невольным испугом посмотрел на Плохово. Но потом, словно опомнившись, Овер нахмурился и провел по вспотевшему лбу тыльной стороной ладони.
– Вот-вот о чем и речь, – усмехнулась Рослик и зацокала прочь, слегка приподняв подол длинного темно-синего платья. – Картошку он сажал, – она опять сердито фыркнула и тряхнула головой.
16
После филармонии Плохово уломал Овера зайти в «Лунный свет». Они расположились за столиком у арочного витражного окна. Похожая на лунатичку бледная заторможенная официантка, с голубыми волосами, большими по-рыбьи выпуклыми сонными глазами, в черной майке и короткой зеленной юбке, подплыла и медленно поставила на столик две бутылки темного пива. В полумраке плескалась Лунная соната, обернутая в мелодию старого шлягера «Я приворожил тебя» Скримина Джея Хокинса. На экране под потолком крутился клип на этот кавер: за фортепьяно загадочно и обольстительно усмехалась Джулиана Сарас, бледная светловолосая женщина в вечернем красном платье. Овер и Плохово наполнили высокие пузатые бокалы.
– Вот что сейчас нужно, – сказал Овер, мрачно глядя на экран, где красиво, завораживающе извивались фигуристые обольстительницы в красном, словно пианистка Сарас взяла и размножилась.
Плохово с грустным недоумением посмотрел на настенный экран, а потом на хмурого унылого Овера.
– Бетховен должен быть сексуально привлекательным. Его нужно подавать с красным откровенным платьем, высокой грудью, длинными ногами и смазливым лицом. А еще лучше перемешать его с какой-нибудь популярной лабудой. Просто Бетховен уже не катит, и даром не упал.
Увы… У меня нет ни красного платья, ни высокой груди, ни смазливого лица, – Овер сверху вниз провел ладонью по лицу, словно пытаясь его стереть, и вздохнул.
– Можно сделать тоже, что сделали двое горемык в «Джазе только девушки» или один горемыка в «Тутси», – грустно улыбнулся Плохово.
– Я буду выглядеть как полный идиот, или как недоделанный трансвестит, – Овер сделал большой судорожный глоток из бокала, словно пытаясь горьким пивом перебить горькую мысль.
– Трансвеститы сейчас в модном тренде, – заметил Плохово и отпил из бокала.
Другие электронные книги автора Дмитрий Шадрин
Граффити




 0
0