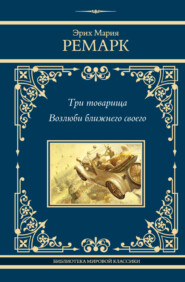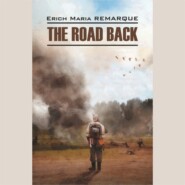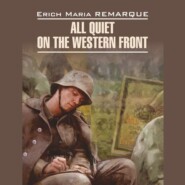По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тени в раю
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Однако создалось впечатление, что именно в этой механической кукушке я обрел нежданного союзника. Ибо адвокат вдруг сменил тон и почти кротко заявил мне:
– Постараюсь сделать для вас все, что в моих силах. Позвоните мне послезавтра утром.
– А что с гонораром?
– Это я обговорю с госпожой Штайн.
– Я бы все-таки предпочел быть в курсе.
– Пятьсот долларов, – бросил он. – Можно в рассрочку, если вам так легче.
– Полагаете, вы чего-то сумеете добиться?
– Отсрочки безусловно. А уж там надо действовать дальше.
– Спасибо, – сказал я. – Послезавтра я позвоню.
– Фокус-покус! – невольно вырвалось у меня чуть позже, в тесном лифте, спускавшем меня на первый этаж узкогрудого дома. Строгая дама, моя попутчица, с ласточкиным гнездом вместо шляпки на голове и белесыми щеками, с которых, едва лифт толчком остановился, посыпалась пудра, одарила меня испепеляющим взглядом. Я сделал совершенно безучастное лицо, лишь бы она не приняла мои слова на свой счет. Меня уже не раз успели предупредить: женщины в Америке чуть что вызывают полицию. «Думай!» – властно требовала табличка красного дерева на стенке лифта аккурат над желтыми кудряшками, трепетно подрагивающими из-под увесистого ласточкиного жилища.
В кабинах лифта мне всегда делается не по себе. В них нет второго выхода, а значит, гораздо труднее улизнуть.
В молодости, помнится, я так любил одиночество. Годы бегства и скитаний, увы, научили меня одиночества бояться. И не потому только, что одиночество побуждает к раздумьям и, как следствие, навевает мрачные мысли, а потому, что оно просто опасно. Кто вынужден скрываться, тот любит многолюдство. В толпе ты один из многих, а значит никто. В толпе ты не бросаешься в глаза.
Я вышел на улицу, и она тотчас окутала меня покрывалом тысяч и тысяч безымянных объятий. Она распахнулась мне навстречу вся, маня множеством дверей, входов-выходов, углов-закоулков, а прежде всего множеством людей, среди которых так покойно можно затеряться.
* * *
– Мы же не по своей охоте, мы поневоле усвоили повадку преступников и даже их образ мыслей, – втолковывал я Кану, с которым мы встретились пообедать возле дешевой пиццерии. – К вам, вероятно, это в меньшей степени относится, чем к нам, всем прочим. Вы-то дрались всерьез, отвечали ударом на удар, а мы просто позволяли себя избивать. Как вы думаете, мы когда-нибудь от этих страхов избавимся?
– От страха перед полицией, наверно, нет. Да это и правильно. Каждый порядочный человек боится полиции. И причиной тому наше общественное устройство. А вот от других страхов? Это уж от самого человека зависит. И самое подходящее место, чтобы избавиться от страхов, именно здесь. Ведь это страна создана эмигрантами. Они и поныне ежегодно прибывают сюда тысячами и получают гражданство. – Кан даже рассмеялся. – Это же чудо, а не страна! Достаточно ответить «да» всего на два вопроса, и вы уже свой в доску! Вам Америка нравится? О да, это самая прекрасная страна на свете! Хотите стать американцем? Ну конечно, само собой! И все, вас уже дружески хлопают по плечу, вы парень что надо.
Я вспомнил об адвокате, у которого побывал с утра.
– Ку-ку! – невольно вырвалось у меня.
– Простите?
Я рассказал Кану о визите к адвокату и ходиках.
– Этот громила именем Иеговы обращался со мной как с прокаженным, – закончил я.
Кан веселился от души.
– Ку-ку! – с явным удовольствием повторил он. – Зато он взял с вас всего пятьсот долларов. Это он так извинился. Как вам пицца?
– Вкусная. Как в Италии.
– Лучше! Нью-Йорк, считайте, итальянский город. А еще испанский, еврейский, венгерский, китайский, африканский и даже истинно немецкий…
– Немецкий?
– Да еще какой! Поезжайте до восемьдесят шестой улицы, там на каждом шагу «гейдельбергские» пивнушки, кофейни «Гинденбург», немецко-американские гимнастические клубы, певческие объединения с ура-патриотическим репертуаром, нацистов полно, и в любой закусочной столик для завсегдатаев и, разумеется, не с веймарским, черно-красно-золотым, а только с имперским, черно-красно-белым флажком…
– Но хотя бы без свастики?
– Напоказ нет. Но по сути здешние американские немцы иной раз нацисты похлеще тамошних, немецких. Из-за океана, сквозь флер сентиментальности им теперь так дорога далекая, любезная сердцу отчизна, откуда они в свое время предпочли убраться подобру-поздорову, потому что она была к ним вовсе не так уж любезна, – язвительно заметил Кан. – Поглядели бы вы, какой там бывает разгул патриотизма – с пивным угаром, рейнскими песнопениями и проникновенными славословиями фюреру.
Я смотрел на него молча.
– Что с вами? – спросил Кан.
– Да ничего, – проронил я устало. – И все это происходит здесь?
– Американцы великодушны и снисходительны. Они не принимают всего этого всерьез. Даже несмотря на войну.
– Несмотря на войну, – повторил я. Еще одна странность, которую я никак не мог взять в толк. Эта держава ведет свои войны где-то далеко, за полсвета, за морями-океанами. Ее границы нигде не соприкасаются с неприятельскими. Она не знает вражеских бомбардировок. Не изведала даже обстрелов.
– По-моему, война – это когда чьи-то войска пересекают границы соседних стран, – продолжил я. – А где здесь неприятельские границы? В Японии и в Германии. Оттого и война здесь какая-то ненастоящая. Солдат, правда, иной раз видишь. А раненых – ни одного. Вероятно, их где-то лечат. Или, может, их вообще не бывает?
– Бывают. И убитые тоже.
– Все равно это как-то не взаправду. Как будто и нет никакой войны.
– Есть. И еще какая.
Все это время я смотрел на улицу. Кан проследил за моим взглядом.
– Ну что, это все тот же город? – спросил он меня. – Теперь, когда вы гораздо лучше язык знаете?
– Прежде все было плоским, как на картине, а движения воспринимались как пантомима. Теперь все стало рельефнее. Появились выпуклости, возвышения, впадины. Стала слышна речь, и ты уже даже понимаешь что-то. Правда, немного, и это усугубляет ощущение нереальности происходящего. Прежде любой таксист был для тебя сфинксом, каждый продавец газет – вселенской тайной. Да и теперь любой официант для меня этакий маленький Эйнштейн, но этого Эйнштейна я все-таки с грехом пополам хоть отчасти понимаю, если он, конечно, не о своих науках рассуждает. Однако весь этот прекрасный мираж чарует лишь пока тебе ничего не нужно. Но стоит чего-то захотеть – сразу начинаются трудности, и тебя из царства метафизических грез швыряет вниз, на уровень десятилетнего школяра, к тому же двоечника.
Кан заказал двойную порцию мороженого.
– Фисташки и лайм! – крикнул он пробегающей официантке. – Здесь семьдесят два сорта мороженого, – мечтательно сообщил он. – Ну, не в этой забегаловке, конечно, но в кондитерских Джонсона и в драгсторах. Сортов сорок я уже перепробовал. Для любителей мороженого эта страна сущий рай. А я, по счастью, до мороженого большой охотник. И представляете, до чего благоразумно устроена эта страна: даже своим солдатам, которые бог весть где, на каком-нибудь атолле сражаются с японцами, она целыми кораблями шлет не только стейки, но и мороженое.
Он вскинул глаза на приближающуюся официантку, словно та несет ему Святой Грааль.
– Фисташки кончились, – сообщила она. – Я принесла вам мяту и лимон, о-кей?
– О-кей.
Официантка улыбнулась.
– А женщины здесь какие соблазнительные, – продолжил Кан. – Аппетитные, как все семьдесят два сорта мороженого. Еще бы, они треть своих денег тратят на косметику. А иначе женщине здесь работу не найти. Примитивные законы естества в Америке решительно не в чести. Здесь только молодость в цене, а когда она проходит, волшебными ухищрениями создается ее видимость. Это, кстати, еще один раздел в ваши наблюдения о здешней нереальности.
Безмятежно и благостно внимал я Кану. Непринужденно, журчащим ручейком, текла наша беседа.
– Помните «Послеполуденный отдых фавна»? – разглагольствовал он. – У нас здесь совсем другой Дебюсси: «Послеполуденный отдых сладкоежки». И нам с вами подобным отдыхом никогда не насладиться вдосталь. Он заглаживает шрамы на наших душах, вы не находите?