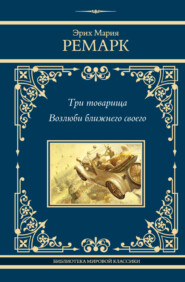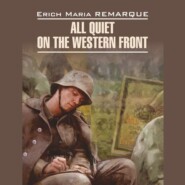По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Земля обетованная
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Равич изменился в лице.
– Я пришел выпить, Роберт. В последний раз у тебя еще вроде оставался кальвадос.
– Кальвадос я сам допил. Но есть немного коньяка и абсента. И бутылка американской водки «Зубровка» от Мойкова.
– Налей-ка мне водки. Вообще-то я предпочел бы коньяк, но водка не пахнет. А мне сегодня в первый раз оперировать.
– За другого хирурга?
– Нет, самому. Но в присутствии заведующего отделением. Будет присматривать, все ли я так делаю. Операция, которая двенадцать лет назад, когда мир еще не сбрендил, была названа моим именем. – Равич усмехнулся. – «Живя в опасности, даже с иронией обходись осторожно!» По-моему, это ведь тоже из «Ланского катехизиса»? Мудрость, которую вы, похоже, забыли или которой все-таки придерживаетесь?
– Потихоньку начинаем забывать, – отозвался я. – Мыто сдуру решили, что здесь мы в безопасности и мудрость нам больше не понадобится.
– Нет вообще никакой безопасности, – заметил Равич. – А когда в нее веришь, ее бывает меньше всего. «Отличная водка, ребята!» «Налейте мне еще!» «Мы живы!» Вот единственное, во что сейчас нужно верить. Что вы нахохлились, как мокрые курицы? Вы живы! Сколько людей приняли смерть, а так хотели пожить еще чуток, еще хоть самую малость! Помните об этом и лучше не думайте ни о чем другом, пока не кончится год отчаянья. – Он взглянул на часы. – Мне пора идти. Когда совсем падете духом, приходите ко мне в больницу. Один обход ракового отделения в два счета лечит от любой хандры.
– Ладно, – согласился Хирш. – Забери с собой «Зубровку».
– С чего вдруг?
– Твой гонорар, – пояснил Хирш. – Мы обожаем срочную терапию, даже когда она не слишком действует. А лечение депрессии еще более тяжелой депрессией – идея весьма оригинальная.
Равич рассмеялся.
– Невротикам и романтикам это не помогает. – Он забрал бутылку и заботливо уложил ее в свой почти пустой докторский саквояж. – Еще один совет, причем даром, – сказал он затем. – Не слишком-то носитесь с вашими чертовски трудными судьбами. Единственное, что вам обоим нужно, – это женщина, желательно не эмигрантка. Разделяя страдание с кем-то, страдаешь вдвойне, а вам это сейчас совсем ни к чему.
День близился к вечеру. Я только что перекусил в драг-сторе, взяв самое дешевое, что было, – две сосиски и две булочки. Потом долго ел глазами рекламу мороженого, здесь оно было сорока двух сортов. Америка – страна мороженого; здесь даже солдаты на улице беззаботно лизали брикетики в шоколадных вафлях. Этим Америка разительно отличалась от Германии: там солдат готов стоять навытяжку даже во сне, а если случится ненароком выпустить газы, то он делает вид, что это автоматная очередь.
По Пятьдесят второй улице я побрел назад в гостиницу. Это была улица стриптиз-клубов. Все стены были сплошь облеплены афишами с обнаженными или почти нагими красотками, которые по ночам медленно раздевались на глазах у тяжело сопящей публики. Позже, ближе к ночи, перед дверями всех заведений, разодетые, будто турецкие генералы, водрузятся толстенные швейцары и забегают юркие зазывалы, наперебой расхваливая каждый свое зрелище. Улица запестрит многоцветьем и позолотой самых немыслимых ливрей и униформ, но нигде не будет видно предательских зонтов и утрированно больших сумок, по которым в Европе так легко распознать проституток. Их на здешних улицах просто не было, а публику в стриптиз-клубах, похоже, составляли одни понурые онанисты. Проститутки здесь назывались call girls, девушки по вызову, и связаться с ними можно было по телефону, номер которого удавалось раздобыть лишь по знакомству, строго конфиденциально, поскольку запрещалось и это – полиция преследовала жриц любви, будто заговорщиков-анархистов. Моралью Америки заправляли женские союзы.
Я покинул аллею онанистов и направился в кварталы бедной застройки. Здесь стояли узкие, убогого вида здания с лестницами, на верхних ступеньках которых, прислонясь к железным перилам, молчаливо и безучастно сидели местные жители. По тротуарам, около лестниц, вечно переполненные отбросами, в почетном карауле выстроились алюминиевые мусорные бачки. На проезжей части шныряющие между автомобилями подростки пытались играть в бейсбол. Их матери, как наседки, взирали на мир с высоты подоконников и лестничных ступенек. Детишки поменьше жались к ним, точно грязно-белесые мотыльки, которых вечерние сумерки и усталость заставили прибиться к этому неприглядному человеческому жилью.
Сменный портье Феликс О’Брайен стоял перед дверями гостиницы «Мираж».
– А Мойкова нет? – поинтересовался я.
– Сегодня же суббота, – напомнил О’Брайен. – Мой день. Мойков в разъездах.
– Верно, суббота. – Как же я забыл! Значит, впереди длинное, пустое воскресенье.
– Вот и мисс Фиола тоже господина Мойкова спрашивала, – вяло обронил Феликс.
– Она еще тут? Или уже ушла?
– По-моему, здесь еще. Во всяком случае, я не видел, чтобы она выходила.
Мария Фиола вышла мне навстречу из полумрака плюшевого будуара. На ней опять был ее черный тюрбан.
– У вас снова съемки? – спросил я.
Она кивнула.
– Совсем забыла, что сегодня суббота. Владимир уехал развозить клиентам свой напиток богов. Но я все предусмотрела. У меня теперь здесь припасена собственная бутылка. Припрятана у Мойкова в холодильнике. Даже Феликс О’Брайен пока что не смог ее обнаружить. Но это, конечно, долго не протянется.
Она прошла передо мной в комнатенку за стойкой и извлекла бутылку из холодильника, откуда-то из самого угла. Я поставил рюмки на столик возле зеркала.
– Вы не ту бутылку взяли, – предупредил я. – Это перекись водорода, к тому же концентрированная. Яд. – Я показал на этикетку.
Мария Фиола рассмеялась.
– Бутылка та самая. А этикетку я сама наклеила, чтобы Феликса отпугнуть. Перекись водорода, как и водка, ничем не пахнет. У Феликса нюх на спиртное просто феноменальный, но тут он ничего не учует, пока не попробует. А чтобы не попробовал – этикетка! Яд! Просто, верно?
– Все гениальные идеи просты, – ответил я, отдавая дань ее изобретательности. – Потому-то они так тяжело и даются.
– Первую бутылку я тут завела себе уже несколько дней назад. Чтобы Феликс на нее не позарился, Владимир Иванович перелил водку в старую, запыленную бутылку из-под уксуса и даже бумажку приклеил с русскими буквами. Но она на следующее же утро исчезла.
– Лахман? – спросил я, пронзенный молниеносной догадкой.
Она в изумлении кивнула.
– Вы-то откуда знаете?
– Природный дар аналитика, – сухо ответил я. – Он признался в содеянном?
– Да. И в приступе раскаяния даже принес взамен вот эту бутылку. Она больше. В ту едва пол-литра набиралось, а в этой добрых три четверти. Ваше здоровье!
– И ваше! – Лурдская вода, подумал я. Лахман даже заподозрить не мог, что это водка, он же вообще непьющий. Одному Богу известно, как приняла его с такой святой водицей пуэрториканка. Впрочем, может, он как-нибудь сообразил выдать ее за сливовицу из Гефсиманского сада?
– А я люблю тут посидеть, – призналась Мария Фиола. – С прежних времен привычка осталась. Я ведь долго тут жила. Я вообще люблю гостиницы. Всегда что-нибудь случается. Люди приезжают, уезжают… встречи, расставания… самые волнующие мгновения в жизни.
– Вы так считаете?
– А вы нет?
Я задумался. В моей жизни встреч и прощаний было достаточно. Даже с лихвой. Прощаний больше. Пожалуй, возможность спокойной жизни волнует меня куда сильнее.
– Может, вы и правы, – заметил я. – Но тогда, наверное, большие отели еще интереснее?
Мария затрясла тюрбаном так, что бигуди зазвенели.
– Они бесцветные. Здесь все по-другому. Здесь люди не прячут своих эмоций. Вы это по мне могли видеть. Вы тут Рауля уже встречали?
– Нет.
– А графиню?
– Только мельком.
– Тогда у вас все впереди. Еще водки? Рюмочки такие маленькие.