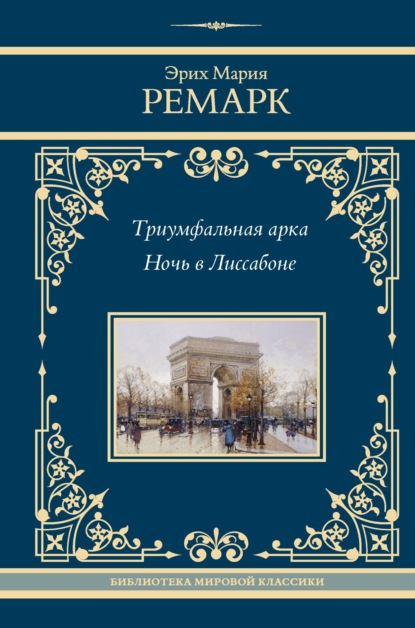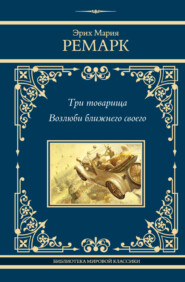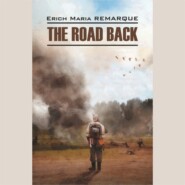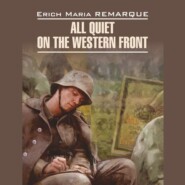По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Триумфальная арка. Ночь в Лиссабоне
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Если не хочешь меня больше видеть, лучше скажи прямо.
– Я бы сказал.
– Но это не так?
– Нет, это правда не так.
– Тогда я счастлива.
Равич глянул на нее.
– Что это ты такое говоришь?
– Я счастлива, – повторила она.
Он помолчал минуту.
– Ты хоть понимаешь, что ты сказала? – спросил он затем.
– Да.
Мягкий свет с улицы мерцал в ее глазах.
– Жоан, такими словами не бросаются.
– А я и не бросаюсь.
– Счастье, – проговорил Равич. – Где оно начинается, где заканчивается? – Ногой он случайно тронул хризантему на полу. Счастье, думал он. Лазурные мечтания юности. Золотисто-благополучная старость. Счастье. Бог ты мой, куда все это подевалось?
– Счастье в тебе начинается и в тебе заканчивается, – изрекла Жоан. – Это же так просто.
Равич ничего не ответил. Что она такое говорит, думал он про себя.
– Ты скажи еще, что ты меня любишь.
– Я тебя люблю.
Он вздрогнул.
– Ты же меня почти не знаешь.
– При чем тут это?
– Очень даже при чем. Любишь – это когда ты готов дожить с человеком до старости.
– Чего не знаю, того не знаю. Любить – это когда ты без человека жить не можешь. Вот это я знаю.
– Где у нас кальвадос?
– На столе. Я принесу. Сиди.
Она принесла бутылку и рюмку и поставила прямо на пол среди цветов.
– А еще я знаю, что ты меня не любишь, – вдруг сказала она.
– Тогда ты знаешь обо мне больше, чем я сам.
Она вскинула на него глаза.
– Но ты меня еще полюбишь.
– Вот и хорошо. За это и выпьем.
– Погоди. – Она плеснула себе кальвадоса и выпила. Потом налила рюмку доверху и протянула ему. Он осторожно принял рюмку из ее рук и на секунду так и замер с рюмкой в руке. Это все неправда, думал он. Сладкие грезы на исходе увядающей ночи. Слова, произнесенные во тьме, – да разве могут они быть правдой? Настоящим словам нужен свет, много света.
– Откуда тебе все это так точно известно? – спросил он.
– Просто я люблю тебя.
«Как она обходится с этим словом! – то ли удивлялся, то ли негодовал про себя Равич. – Не раздумывая, как с пустой миской. Плеснет туда чего хочешь и называет любовью. Чего только в эту миску не наливали! Страх одиночества, влечение к другому «я», желание польстить собственному самолюбию, призрачные домыслы фантазии! Но кому дано знать правду? Разве то, что я сказанул насчет дожить с человеком до старости, – разве это не еще глупее? Может, она в своем неразумении, в нераздумывании своем куда больше права? С какой стати в эту зимнюю ночь, словно на переменке между двумя войнами, я тут расселся, точно учитель-зануда, и раскладываю слова по полочкам? Зачем сопротивляюсь – вместо того, чтобы ринуться с головой, пусть и не веря?»
– Зачем ты сопротивляешься? – спросила Жоан.
– Что?
– Зачем ты сопротивляешься? – повторила она.
– Да не сопротивляюсь я. Чему мне сопротивляться?
– Не знаю. Но что-то в тебе замкнуто наглухо, и ты не хочешь туда впускать… никого и ничего.
– Брось, – буркнул Равич. – Налей-ка мне еще.
– Я счастлива и хочу, чтобы ты тоже был счастлив. Я совершенно счастлива. Я просыпаюсь с тобой, засыпаю с тобой. И больше ни о чем знать не хочу. Когда я о нас с тобой думаю, у меня в голове серебристый звон, а иной раз будто бы скрипка. Нами обоими полнятся улицы, словно музыкой, подчас вторгаются и людские голоса, и кадры плывут, как в кино, но музыка не стихает. Она всегда со мной.
«Еще пару недель назад ты была несчастна, – думал Равич, – и меня вообще не знала. Какое легкое счастье!» Он выпил свою рюмку.
– И часто ты бывала счастлива? – спросил он.
– Да нет. Не часто.
– Но иногда. Когда в последний раз у тебя в голове был серебристый звон?
– Зачем ты спрашиваешь?
– Да так просто. Лишь бы спросить.
– Забыла. И вспоминать не хочу. Это было по-другому.
– Я бы сказал.
– Но это не так?
– Нет, это правда не так.
– Тогда я счастлива.
Равич глянул на нее.
– Что это ты такое говоришь?
– Я счастлива, – повторила она.
Он помолчал минуту.
– Ты хоть понимаешь, что ты сказала? – спросил он затем.
– Да.
Мягкий свет с улицы мерцал в ее глазах.
– Жоан, такими словами не бросаются.
– А я и не бросаюсь.
– Счастье, – проговорил Равич. – Где оно начинается, где заканчивается? – Ногой он случайно тронул хризантему на полу. Счастье, думал он. Лазурные мечтания юности. Золотисто-благополучная старость. Счастье. Бог ты мой, куда все это подевалось?
– Счастье в тебе начинается и в тебе заканчивается, – изрекла Жоан. – Это же так просто.
Равич ничего не ответил. Что она такое говорит, думал он про себя.
– Ты скажи еще, что ты меня любишь.
– Я тебя люблю.
Он вздрогнул.
– Ты же меня почти не знаешь.
– При чем тут это?
– Очень даже при чем. Любишь – это когда ты готов дожить с человеком до старости.
– Чего не знаю, того не знаю. Любить – это когда ты без человека жить не можешь. Вот это я знаю.
– Где у нас кальвадос?
– На столе. Я принесу. Сиди.
Она принесла бутылку и рюмку и поставила прямо на пол среди цветов.
– А еще я знаю, что ты меня не любишь, – вдруг сказала она.
– Тогда ты знаешь обо мне больше, чем я сам.
Она вскинула на него глаза.
– Но ты меня еще полюбишь.
– Вот и хорошо. За это и выпьем.
– Погоди. – Она плеснула себе кальвадоса и выпила. Потом налила рюмку доверху и протянула ему. Он осторожно принял рюмку из ее рук и на секунду так и замер с рюмкой в руке. Это все неправда, думал он. Сладкие грезы на исходе увядающей ночи. Слова, произнесенные во тьме, – да разве могут они быть правдой? Настоящим словам нужен свет, много света.
– Откуда тебе все это так точно известно? – спросил он.
– Просто я люблю тебя.
«Как она обходится с этим словом! – то ли удивлялся, то ли негодовал про себя Равич. – Не раздумывая, как с пустой миской. Плеснет туда чего хочешь и называет любовью. Чего только в эту миску не наливали! Страх одиночества, влечение к другому «я», желание польстить собственному самолюбию, призрачные домыслы фантазии! Но кому дано знать правду? Разве то, что я сказанул насчет дожить с человеком до старости, – разве это не еще глупее? Может, она в своем неразумении, в нераздумывании своем куда больше права? С какой стати в эту зимнюю ночь, словно на переменке между двумя войнами, я тут расселся, точно учитель-зануда, и раскладываю слова по полочкам? Зачем сопротивляюсь – вместо того, чтобы ринуться с головой, пусть и не веря?»
– Зачем ты сопротивляешься? – спросила Жоан.
– Что?
– Зачем ты сопротивляешься? – повторила она.
– Да не сопротивляюсь я. Чему мне сопротивляться?
– Не знаю. Но что-то в тебе замкнуто наглухо, и ты не хочешь туда впускать… никого и ничего.
– Брось, – буркнул Равич. – Налей-ка мне еще.
– Я счастлива и хочу, чтобы ты тоже был счастлив. Я совершенно счастлива. Я просыпаюсь с тобой, засыпаю с тобой. И больше ни о чем знать не хочу. Когда я о нас с тобой думаю, у меня в голове серебристый звон, а иной раз будто бы скрипка. Нами обоими полнятся улицы, словно музыкой, подчас вторгаются и людские голоса, и кадры плывут, как в кино, но музыка не стихает. Она всегда со мной.
«Еще пару недель назад ты была несчастна, – думал Равич, – и меня вообще не знала. Какое легкое счастье!» Он выпил свою рюмку.
– И часто ты бывала счастлива? – спросил он.
– Да нет. Не часто.
– Но иногда. Когда в последний раз у тебя в голове был серебристый звон?
– Зачем ты спрашиваешь?
– Да так просто. Лишь бы спросить.
– Забыла. И вспоминать не хочу. Это было по-другому.