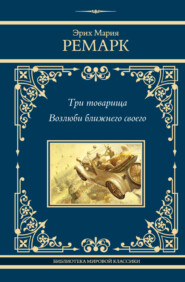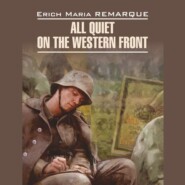По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Земля обетованная
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
* * *
На несколько месяцев Хирш стал для эмигрантов чем-то вроде ходячей легенды. Некоторым он спасал жизнь неведомо где раздобытыми бланками удостоверений, которые заполнял на их имя. Благодаря этим бумажкам людям, за которыми уже охотилось гестапо, удавалось улизнуть за Пиренеи. Других Хирш прятал в провинции по монастырям, пока не предоставлялась возможность переправить их через границу. Двоих он сумел освободить даже из-под ареста и потом помог бежать. Подпольную литературу Хирш возил в своей машине почти открыто и чуть ли не кипами. Это в ту пору он, на сей раз в форме офицера СС, вытащил из лагеря и меня – к двум политикам в придачу. Все с замиранием сердца следили за этой отчаянной вылазкой одиночки против несметных сил противника, с ужасом ожидая неминуемой гибели смельчака. И вдруг Хирш сразу исчез, как в воду канул. Прошел слух, что его расстреляли гестаповцы. И, как всегда, нашлись люди, которые вроде бы даже видели, как его арестовали.
После моего освобождения из лагеря мы еще не раз встречались и провели друг с другом не один вечер, досиживая за разговором до утра. Хирш был вне себя от того, что немцы убивают евреев как кроликов, а те тысячами, без малейшего сопротивления, дают заталкивать себя в битком набитые товарные вагоны и везти прямиком в лагеря смерти. Он не мог уразуметь, почему они даже не пытаются восстать, дать отпор, почему хотя бы часть из них, зная, что погибели все равно не миновать, не взбунтуется, дабы прихватить с собой пару-тройку жизней своих палачей, – так нет же, все как один покорно идут на заклание. Мы оба знали, что поверхностными рассуждениями о страхе, последней отчаянной надежде или тем паче трусости ничего тут не объяснишь – скорее объяснение коренилось в чем-то прямо противоположном, ибо, судя по всему, человеку, вот так, молча принимающему смерть, требуется куда больше мужества, чем тому, кто будет рвать и метать, изображая перед смертью неистовство тевтонской мести. И все равно Хирш выходил из себя при виде этого – длящегося вот уже два тысячелетия со времен Маккавеев – смирения. Он ненавидел за это свой народ – и понимал его всеми фибрами выстраданной любви и боли. Личная война, которую он в одиночку вел против изуверства, имела свои, не только общечеловеческие причины; в чем-то это было еще и восстание против самого себя.
Я взял газеты, которые дал мне Левин. По-английски я понимал плохо, так что читал с трудом. Еще на корабле я одолжил у одного сирийца французский учебник английской грамматики; какое-то время этот сириец даже давал мне уроки. Уже здесь, когда его выпустили, он оставил книгу мне в подарок, и я продолжал занятия. Произношение я с грехом пополам осваивал при помощи портативного граммофона, который привезла с собой на остров Эллис семья польских эмигрантов. Там было около дюжины пластинок, которые все вместе составляли курс английского. Граммофон по утрам выносился из спального в дневной зал, вся семья усаживалась перед ним где-нибудь в уголке и учила английский. Они рьяно и почти подобострастно вслушивались в неторопливый, сытый голос диктора, пока тот нудно рассказывал про жизнь воображаемой четы англичан, мистера и миссис Браун, – у тех был дом, сад, сыновья и дочери, которые исправно ходили в школу и делали домашние задания, в то время как сам мистер Браун, у которого имелся еще и велосипед, ездил на этом велосипеде в контору, где он служил, а миссис Браун при всем при том поливала цветы, готовила обед, носила передник и густые черные волосы. Несчастные эмигранты каждый день истово жили вместе с семьей Браунов этой сонной жизнью, их уста раскрывались и закрывались в такт речениям диктора, как при замедленной киносъемке, а вокруг, кто стоя, кто сидя, трудились все, кому тоже хотелось поживиться знаниями. Со стороны, особенно в сумерки, казалось, будто сидишь возле пруда со старыми карпами, которые лениво всплывают на поверхность, раскрывая и закрывая рты в ожидании подкормки.
Были среди эмигрантов и такие, кто мог бегло объясниться по-английски. Во время оно у их родителей хватило ума определить своих чад в реальные училища, где вместо латыни и греческого им преподавали английский.
Теперь эти чада сами превратились в авторитетных учителей и время от времени консультировали тех, кто, склонившись над газетой, по складам разбирал фронтовые сводки с полей всемирной бойни, попутно упражняясь в числительных: десять тысяч убитых, двадцать тысяч раненых, пятьдесят тысяч пропавших без вести, сто тысяч пленных, – благодаря чему бедствия планеты на какое-то время сводились для них к трудностям школьного урока, на котором, допустим, надо непременно освоить произношение звука th в слове thousand[5 - Тысяча (англ.).]. Знатоки снова и снова терпеливо демонстрировали им этот каверзный звук, которого в немецком нет и по скверному произношению которого в тебе мигом распознают иностранца, – th как thousand, fifty thousand[6 - Пятьдесят тысяч (англ.).] убитых в Берлине и Гамбурге, – до тех пор, пока кто-то из учеников, внезапно побледнев и поперхнувшись на полуслове, не выпадал вдруг из роли школяра, с ужасом бормоча:
– Гамбург? Да у меня же мама еще в Гамбурге!
Я не очень представлял себе, какой именно акцент вырабатывается у меня на острове Эллис; зато я люто возненавидел войну в качестве материала для букваря. Уж лучше вверить себя нудному идиотизму моей английской грамматики и зазубривать, что Карл носит зеленую шляпу, что его сестренке двенадцать лет и она любит пирожные, а его бабушка все еще катается на коньках. Эти высокоумные измышления нафталинной педагогической премудрости по крайней мере образовывали что-то вроде островков идиллической банальности в кровавых морях газетного чтива. А на душе и без того было тошно от одного вида всех этих беженцев, которые стыдились… которых жизнь заставила стыдиться своего родного языка, языка палачей и изуверов, и которые теперь – не столько даже обучения ради, а словно лихорадочно торопясь позабыть последние привезенные с собой остатки родной речи – беспомощно коверкали чужеземные слова, норовя даже между собой изъясняться по-английски. Дня за два до моего освобождения томик немецких стихов, с которым я не разлучался, внезапно исчез. Утром я на секунду оставил его в дневном зале – а нашел только после обеда, в уборной, разорванным в клочки и перепачканным в дерьме. И поделом мне, подумал я: все чарующие красоты немецкой лирики выглядели здесь чудовищной издевкой над страданиями, принятыми всеми этими несчастными от той же самой Германии.
Уотсон, партнер Левина, и вправду явился через несколько дней. Это был помпезного вида мужчина с крупным мясистым лицом и пышными седыми усами. Как я и предполагал, он не был евреем и не обладал ни любопытством Левина, ни его интеллигентной сообразительностью. Он не говорил ни по-немецки, ни по-французски, зато широко жестикулировал и расплывался в глуповатой, хотя и успокоительной улыбке. Худо-бедно, но как-то мы с ним объяснились. Уотсон, впрочем, ни о чем особенно и не спрашивал, только императорским жестом повелел мне ждать, а сам отправился в администрацию беседовать с инспекторами.
В это время в женском отделении возникла какая-то тихая сумятица. Туда сразу же устремились надзиратели. Все обитательницы отделения сгрудились вокруг одной женщины – та лежала на полу и постанывала.
– Что там стряслось? – спросил я у старика, который одним из первых метнулся на шум и уже успел вернуться. – Опять с кем-то истерика?
Старик мотнул головой:
– Похоже, какая-то чудачка надумала рожать.
– Что? Рожать? Здесь?
– Похоже на то. Любопытно, что скажут инспектора. – Старик невесело хмыкнул.
– Преждевременные роды! – объявила дама в красной панбархатной блузке. – На месяц раньше срока. Не мудрено, при такой-то нервотрепке.
– Ребенок уже родился? – спросил я.
Женщина глянула на меня свысока.
– Разумеется, нет. У нее только первые боли. Это может длиться часами.
– Если ребенок родится здесь – он будет американцем? – поинтересовался вдруг старик.
– А кем же еще? – опешила женщина в красной блузке.
– Я имею в виду – здесь, на Эллисе. Все-таки это лишь карантинная зона, вроде как еще не настоящая Америка. Америка – вон она где.
– Здесь тоже Америка! – выпалила дама. – Охранники вон американцы. И инспектора тоже.
– Если так, то матери крупно повезет, – заметил старик. – У нее нежданно-негаданно объявится родственник в Америке – собственный ребенок! Ее легче будет пропустить! Эмигрантов, у кого в Америке родственники, впускают почти сразу. – Старик обвел нас несмелым взглядом и смущенно улыбнулся.
– Если его не признают американцем, значит, это будет первый истинный гражданин мира, – сказал я.
– Второй, – возразил старик. – Первого мне довелось повстречать еще в тридцать седьмом на мосту между Австрией и Чехословакией. На этот мост полиция обеих стран согнала тогда немецких эмигрантов. Податься было некуда, кордон стоял с двух концов. Целых три дня между границами прокуковали. Вот одна и родила.
– И что же стало с ребенком? – взволнованно спросила женщина в красной блузке.
– Умер задолго до того, как между двумя странами успела начаться война, – проронил старик. – Это было еще в гуманные времена, до их присоединения к Германии, – добавил он почти извиняющимся тоном. – Потом-то эту мамашу вместе с ее младенцем попросту прибили бы, как котят.
* * *
Я увидел, что Уотсон уже возвращается из инспекторского бюро. В своем светлом клетчатом костюме он возвышался над согбенными спинами жмущихся у дверей беженцев, будто великан. Я поспешил навстречу. Сердце у меня вдруг бешено забилось. Уотсон помахал моим паспортом.
– Считайте, что вам повезло, – объявил он. – Тут какая-то женщина рожает, инспектора совсем одурели. Вот ваша виза.
Я взял паспорт. Руки у меня дрожали.
– И на какой срок?
Уотсон от удовольствия даже рассмеялся.
– Собирались дать вам транзитную и только на четыре недели, а дали туристическую на два месяца. Можете этой роженице спасибо сказать – так они торопились от нее, а заодно и от меня избавиться. Для нее, кстати, уже заказана моторка – сразу в больницу повезут. Заодно и нас могут прихватить. Ну, как вам это?
Уотсон крепко хлопнул меня по спине.
– Это что же, выходит, я свободен?
– Конечно! На ближайшие два месяца. А потом мы придумаем что-нибудь еще.
– Два месяца! – пробормотал я. – Целая вечность.
Уотсон мотнул своей львиной шевелюрой.
– Вовсе не вечность! Всего два месяца! Нам надо сразу же обсудить наши следующие шаги.
– Только на берегу! – сказал я. – Не сейчас!
– Хорошо. Но особенно не затягивайте. Тут еще кое-какие расходы остались – проезд, виза, ну и прочее. Всего пятьдесят долларов. Лучше сразу же это уладить. А уж остаток гонорара отдадите, когда обживетесь.
– Остаток – это сколько?
– Сто долларов. Очень недорого. Мы не злодеи какие-нибудь.
Я ничего ему на это не ответил. Мне вдруг страстно захотелось только одного – как можно скорее выбраться из этого зала. Прочь с острова Эллис! Я боялся, что в последний миг дверь инспекторского бюро вдруг распахнется и меня вызовут, вернут. Я торопливо достал свой тощий бумажник и выдернул оттуда пятьдесят долларов. Оставалось у меня еще девяносто девять. Это не считая сотни долга. «Теперь всю оставшуюся жизнь плати этим адвокатам проценты», – пронеслось у меня в голове. Но мне уже было все равно – я ничего не чувствовал, кроме яростного, ознобом накатывающего нетерпения.
– Мы можем идти? – спросил я.
Женщина в красной блузке вдруг рассмеялась.
– Сколько еще часов пройдет, пока этот ребенок родится. Часов! Но они там этого не знают. Эти инспекторишки! Все знают, а этого не знают! И я лично меньше всего намереваюсь их просвещать. Ведь любая живая тварь, выходящая отсюда, дарит надежду остающимся. Верно?
– Верно, – согласился я. И увидел женщину, которой предстояло рожать, – двое надзирателей вели ее под руки.