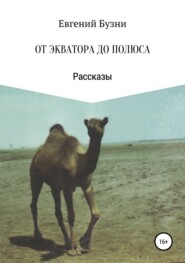По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Траектории СПИДа. Книга третья. Александра
Автор
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не буду я говорить, что сам из музея, не переживайте.
– Ох, знаю я вас. Обязательно ввяжетесь. Ну, смотрите.
Они расстались, и Инзубов направился через переход к митингующим. Руководивший оцеплением майор милиции, посмотрев удостоверение Инзубова, нехотя, пропустил к толпе. На парапете возвышалась над всеми нескладная пухлая фигура Новодворской, кричащая в толпу:
– Мы все законопослушные граждане, мы хотим правового государства, в котором из нас не будут делать балванчиков. Мы против всякого насилия, нам это противно, однако мы не хотим, чтобы нами правили жирные партократы из своих кремлёвских кабинетов. До каких пор мы будем молчать, как бараны в хлеву? Неужели мы лошади, загнанные в стойла, чтобы жевать то, что нам бросят в качестве подачки бюрократы партийной номенклатуры? То, что произошло двадцать лет назад в Чехословакии, когда советские войска душили демократию – это позор нашей нации. Это могли сделать только партократы, которым не место у власти.
Слушая брызгающую слюной Новодворскую, Инзубов не мог никак отделаться от двух ощущений. Первое заключалось в том, что выступавшая женщина казалась ему психически ненормальной. Ему было непонятным, почему в таком случае больному явно человеку разрешают выступать перед публикой да ещё в центре Москвы.
Второе ощущение носило совершенно другой характер. Он вдруг почувствовал себя в другом времени. Ведь это у Островского в выступлениях тогдашних оппозиционеров звучали такие же слова "партократчики" и "бюрократы". Что же это были за годы? Ну да двадцатые. Вспомнилась одна из неопубликованных страниц романа, в которой на слова оппозиционеров отвечал рабочий коммунист Панкратов:
"… в наших рядах есть люди, готовые в любую минуту взорвать партийное единство, поломать в щепки партийную дисциплину, и которые при каждой трудности подымают бунт и вносят дезорганизацию. Давайте же откроем настоящее лицо оппозиции.
Разве ЦеКа партии не записывал в своих решениях наличия бюрократизма и излишнего централизма в некоторых организациях? Разве пятого декабря не были внесены решения о рабочей демократии? Были, и Троцкий голосовал за них. В партии каждому большевику предоставлялась возможность высказать свои взгляды и предложения, устраняющие недостатки в нашей работе. Оставалось только обсудить всё в нашей единой партийной семье и общими силами двинуться вперед, преодолевая трудности.
Что же сделал Троцкий? На другой же день после этого решения, за которое он голосовал и был вполне с ним согласен, он через голову ЦеКа обратился к партийным массам со своим возмутительным документом. Сейчас же вслед за этим все, какие только были в партии оппозиционные элементы, повели на ЦеКа бешеную атаку. Вместо здорового обсуждения наших хозяйственных и внутрипартийных недочётов у нас началась внутрипартийная война. Троцкий пытался вооружить молодёжь против старой гвардии. Он хотел разорвать их неразрывное единство. Он и его сторонники пытались оклеветать ЦеКа и старую гвардию. И большинство партии, возмущённое этой небывалой антипартийной вылазкой, дало оппозиции жестокий отпор по всему фронту. Они клевещут, что мы их зажимаем, но кто этому поверит?
У нас в Киеве не меньше сорока агитаторов-троцкистов. Есть из Москвы, из Харькова целая группа, даже два из Петрограда. Мы им всем даём говорить. Я убеждён, что нет ни одной ячейки, где они не пробовали побрызгать грязью. Ведь Дубаве, Шумскому и еще нескольким бывшим работникам дали мандаты на районную и городскую конференции, хотя по уставу они не имеют на это права как приезжие. Им дали высказаться полностью, и не наша вина, если их большинство осудило резко и безоговорочно.
Вслушайтесь в их оскорбительную кличку "аппаратчик". Сколько в нем ненависти! Разве партия и ее аппарат не одно целое? Они говорят молодёжи: "Вот аппарат – это ваш враг. Бейте его".
На что это похоже? Так могут говорить развинченные анархисты, а не большевики.
Скажите, как бы мы назвали тех, кто натравливал бы молодых красноармейцев против командиров и комиссаров, против штаба, и это всё во время окружения отряда врагами?
Что же, если я сегодня слесарь, то я, по Троцкому, ещё могу считаться "порядочным"? Но если я завтра стану секретарём комитета, то я уже "бюрократ" и "аппаратчик"?
Вы понимаете, к чему приведёт троцкистов такая клевета? Они неизбежно станут врагами пролетарской революции. Наши комитеты были и будут нашими штабами. Мы посылаем в них лучших большевиков и никому не позволим их дискредитировать".
"Так говорили в двадцатые годы, – думал Инзубов, – и, по сути дела так же говорят в адрес коммунистов сегодня и даже здесь на площади".
Вокруг стояла разношёрстная толпа людей. Многие, очевидно, были членами "Демократического союза" Новодворской, но стояли и случайно оказавшиеся здесь по пути в магазины. Курили сигареты и весело пересмеивались молодые парни, видя в происходящем развлечение. Пришли и люди с камерами, снимавшими для телевизионных программ.
Одна из стоявших рядом с Инзубовым женщин, закинув чёрную сумочку на плечо, зааплодировала Новодворской. Евгений Николаевич не удержался от вопроса:
– Ну и чего аплодировать? Вы хоть понимаете, к чему она призывает, чего хочет для вас?
– Понимаю, – охотно откликнулась женщина с сумочкой, – а вы не согласны с нею?
Евгений Николаевич почувствовал, как на них сразу же направили объектив видеокамеры. Молоденькая девушка протиснулась с микрофоном. Останавливать разговор теперь тем более было невозможно, и он отвечал:
– Я тоже не слепой и вижу, что происходит в нашей стране. К сожалению, есть у нас среди руководящих кадров и преступники (он вспомнил председателя горисполкома Ялты), и просто плохие работники (вспомнил секретаря горкома комсомола, против которого выступал), есть плохие коммунисты, которые не могут носить такое звание (вспомнилось его выступление на партсобрании в издательстве), но это не даёт никому права говорить, что все коммунисты плохие. Вы, например, где работаете?
– На молокозаводе.
– Кем?
– Инженером по качеству.
– Вот хорошо. Если мы с вами увидим в магазине плохую сметану или разбавленное кем-то молоко, то правильно ли будет требовать ликвидации всех молокозаводов? Вы поймите, что и среди простых людей есть немало плохих и хороших. Конечно, на высоких партийных постах люди должны нести большую ответственность. Им оказывается больше доверия. Те, кто его не оправдывают, а такие есть, должны быть убраны, но нельзя же отрубать всю руку, если один палец испорчен. Другое дело, что мы должны организовать так нашу жизнь, чтобы на руководящие посты не попадали мерзавцы. Так это от нас зависит. В этом нужно объединяться.
Ощущение направленной на него камеры вдруг пропало. За спиной раздались крики. К стоявшей опять на парапете и что-то кричавшей Новодворской прорывались сквозь толпу люди в особой милицейской форме. Это были солдаты ОМОН. Молодые парни, которым было явно всё равно, о чём говорила оратор, но обрадованные обострением ситуации, кинулись в толпу с криками: "менты!", "долой!". Началось нечто вроде потасовки. Оцепление милиции быстро продвинулось к месту событий и стало оттеснять толпу, говоря:
– Расходитесь, граждане, расходитесь! Митинг окончен. Незачем здесь стоять.
Теперь только Евгений Николаевич заметил вдоль бульвара длинный ряд микроавтобусов с зашторенными окнами. Туда стали заталкивать сопротивляющихся юнцов. Некоторые, уже попавшие в автобус, вдруг высовывались в открытые окна с криками:
– Свободу! Нас не победить! Убивают. А-а-а!
Последний возглас означал, что кричавшему дали сзади пинок или скрутили руку, заставив убраться от окна машины.
Новодворская последовала за ними в один из РАФиков. Туда же сажали и других членов ДС, захотевших поддержать своего голосистого лидера. Через несколько минут площадь опустела. Всё походило на спектакль, в котором лишь главные действующие лица знали сценарий. Остальная массовка была бесплатным приложением.
Пушкинская площадь зажила своей обычной жизнью, шипя по асфальту колёсами троллейбусов, срываясь потоками застоявшихся у светофора машин, гомоня толпящимися на остановках пассажирами и сидящими на скамейках сквера жителями и гостями столицы. Только милиции было больше обычного. Она уходила последней.
Инзубов вернулся через переход на свою привычную сторону улицы Горького и зашёл в музей. Татьяна Евгеньевна, слушая рассказ о происшедшем на площади, всплеснула руками:
– Я так и знала, что вы попадёте в какую-нибудь историю. Нельзя мне было вас отпускать.
– Ох, Татьяна Евгеньевна, – вздохнул Инзубов, – незачем вам волноваться. Площадь и я пока живы.
СМУТНОЕ ВРЕМЯ
Митинги подобные тому, что произошёл двадцать первого августа, становились постепенно не таким уж редким событием, но они случались разными по количеству митингующих, проходили в разных местах и по разным поводам. Обыватели, брошенные волею случая или пришедшие специально по зову заранее распространённых листовок, полагали, что демократия и счастливая жизнь врывается в их мир с этими митингами. На многих лицах можно было заметить улыбки счастья. Они, эти счастливо улыбающиеся, не сразу или вообще не улавливали незаметную, но очень важную деталь – выступающие были почти всегда одни и те же. Попробуй кто из инакомыслящих – их так, конечно, не называли, прилепив другие определения: ретроград, аппаратчик, совок – выступить со своими отличающимися идеями, как, во-первых, ему не давали слова, а, во-вторых, если прорвётся и начнёт говорить, то освистывали и оглушали криками.
Жизнь, страдалец мой читатель, менялась на глазах, и никто не знал, в какую сторону. В этом вынужден был признаться сам Генеральный секретарь ЦК КПСС, глава государства Михаил Сергеевич Горбачёв. О! неужели же он, так легко взлетевший на Олимп власти три года назад, мог признаться об этом своему народу? Простой человек сказал бы в таком случае: "Ни боже упаси!" Как на духу, такое можно было высказать только ближайшему другу, но не было ни одного у Горбачёва ни среди двухсотвосьмидесятимиллионного населения Советского Союза, ни среди девятимиллионного населения Москвы. Разве что жена Раиса? Но разговоры с нею, откровения между связанными семейными узами супругами, тайные перешёптывания в спальном уединении, не могут фиксироваться по этическим соображениям. Зато переговоры и откровения с зарубежными друзьями, а их у лидера Российского государства становилось с некоторых пор всё больше, пока они не пошли на убыль вместе с популярностью Горбачёва, фиксировались в обязательном порядке, а потому сохранились в истории. Произошло это чисто случайно.
Ну, ты же понимаешь, умница-читатель, что Горбачёв не Иисус Христос, хотя сам полагал, что близок к нему по положению. Он самый простой человек, совсем недалеко ушедший от мышления неразумной домашней хозяйки. Прошу прощения перед разумными домашними хозяйками. Я ни в коем случае не хотел их обидеть, так как понимаю, что разумная хозяйка, даже просто домашняя, никогда бы не стала совершать непродуманных шагов, покупая обычные яйца на базаре. Уж, конечно, она не станет покупать тухлые яйца, когда ей нужны свежие, не станет хватать второпях гнилой качан капусты, а переберёт с дюжину головок, прежде чем найдёт самую красивую, крепенькую, сладкую. Но это я говорю о разумной хозяйке. Посмотрим же, как было у Горбачёва.
В ноябре тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года в Соединённых Штатах Америки на выборах победил давний знакомый Горбачёва Джордж Буш. Но вступление в должность намечалось в январе следующего года. А тут в декабре этого года в Нью-Йорке проводится очередное заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Горбачёв летит в Америку докладывать всему миру о своей концепции "Нового мышления". Горбачёв не сомневался, что этой концепцией берёт бразды правления миром в свои руки. Собственная страна его уже интересовала меньше.
Свою особую значимость в мировых процессах ему трудно было переоценить. Ещё год назад, весенним апрельским месяцем он сумел проявить свою самостоятельность и значимость перед советскими подчинёнными ему руководителями. Тогда апрельским весенним днём в Москву прилетел Государственный секретарь США Шульц. Задачей прилёта были затянувшиеся переговоры по вопросу ликвидации ракет средней дальности в Европе. Тот факт, что Советский Союз имел в Европе свои ракеты СС-20, не должно было удивлять, поскольку государство обороняло свои рубежи. Дальность полёта ракет была всего от пятисот до полуторы тысячи километров. А вот почему американцы установили в Европе свои ракеты средней дальности, трудно было объяснить с позиции защиты Америки, находящейся на расстоянии около четырёх тысяч километров от Европы. Но с этим аспектом уже не спорили.
Сложность предстоящих переговоров заключалась в том, что американцы хотели включить в договор об уничтожении ракет новые советские ракеты СС-23, которые, правда, имели меньший радиус полёта, всего до четырёхсот километров, то есть не входили в число ракет средней дальности, предусмотренных проектом договора, но отличались повышенной точностью попадания в цель.
Готовясь к запланированным переговорам, задолго до того, как Шульц сел в самолёт по направлению к Москве, Горбачёв получил чёткие пояснения и от маршала Ахромеева, и от секретаря ЦК партии по международным вопросам Добрынина о том, что ни в коем случае нельзя соглашаться на сокращение в Европе ракет СС-23, не смотря на то, что по каким-то странным причинам соглашательскую политику в пользу США в этом, как и во многих других вопросах, занимал министр иностранных дел Шеварднадзе.
Переговоры начались. Вопросы обсуждались в целом и детально по каждому пункту. Опытный и хитрый политик Шульц главную закавыку договора оставил на закуску, когда будто бы всё согласовано, всё понято. Бодрым голосом он сказал в заключение:
– Господин Горбачёв, я могу, наконец, твёрдо заявить, что оставшиеся ещё спорные вопросы могут быть разрешены в духе компромисса, так что господин Горбачёв может смело приезжать в Вашингтон в ближайшее время для подписания важного соглашения о ликвидации ракет средней дальности…
Последнее условие Шульц проговорил как бы между прочим, как маленькое несущественное дополнение к общему большому разговору:
– … если вы согласитесь включить в соглашение и ракеты СС-23.
Присутствовавшие на переговорах Ахромеев и Добрынин спокойно смотрели на Горбачёва, ожидая естественного ответа в оговоренном заранее направлении, то есть пояснении заокеанскому политику очевидного: названные ракеты СС-23 не подпадают под условия соглашения.
Однако Горбачёв, задумавшись лишь на мгновение, произнёс: