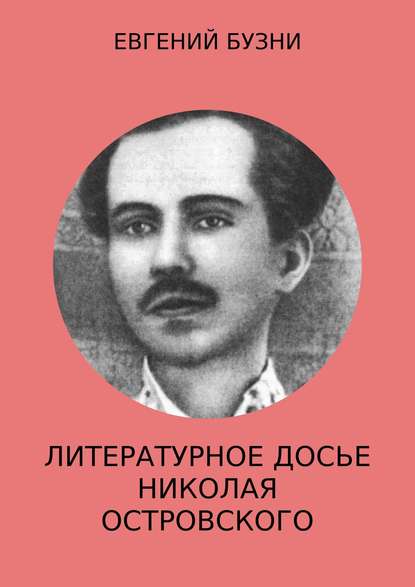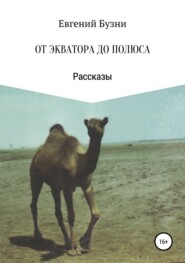По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Литературное досье Николая Островского
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Островский лечится в санатории "Старая Мацеста", встречается там со своими "старыми приятелями", заметно поправляет своё здоровье, в ноябре переезжает в Москву. Однако писем этого времени почти нет. Буквально четыре небольших сообщения с ноября по январь. Последнее из них написано харьковским друзьям Ляхович, Новикову и Карасю 25 января, в котором говорится главным образом о некоторых семейных неурядицах.
Следующее письмо, имеющееся в фондах, написано 7 мая 1931 года и адресовано Розе Ляхович. Это фактически первое из имеющихся сообщений о том, что Островский действительно начал работу над романом "Как закалялась сталь".
"Розочка!
Сейчас у меня такая нехорошая обстановка, как никогда. Мне и Рае очень тяжело дышать. Я иногда чувствую, что только напряжением всей воли постараюсь пережить сегодняшнюю обстановку, в которой мы живём. Ты понимаешь, что нечем дышать не только из-за тесноты, но и морально чуждой психологии тех, кто сейчас у нас.
Роза, я начал писать. Я первые отрывки пришлю тебе для рецензии дружеской, а ты, если сможешь, перепечатай на машинке и верни мне. Эх, старушка, если бы ты была с нами, мы бы с тобой дело двинули бы вперёд. Но я всё же начал писать, несмотря на отвратительное окружение. Письмо порви.
Розочка, я прошу тебя об одном: в Харькове живёт одна славная женщина – Давыдова Анна Павловна, моя приятельница, врач. Она прислала письмо. Пять лет не переписывались. Если найдёшь возможным, зайди к ней и расскажи ей обо мне всё, что она бы хотела знать. Писать мне ей трудно. Она славная дивчина. Посылаю её письмо (только ей об этом не говори).
Розочка, на Райкомчика не сердись, у неё сверх головы горя и работы.
Жму руки.
Твой Н".
Вот и добрались, наконец, до настоящего начала работы над романом. С этого момента нет писем Островского, в которых бы он не упоминал о своей работе над романом. И это понятно. Теперь он действительно пишет или диктует, но работает над книгой. В этом нет никаких сомнений. Но возникают вопросы другого характера.
26 мая в письме Николаю Новикову:
"<…> Я, Петушок, весь заполнен порывом написать до конца свою «Как закалялась сталь». Но сколько трудностей в этой сизифовой работе – некому писать под мою диктовку. Это меня прямо мучит, но я упрям, как буйвол. Я начал людей оценивать лишь по тому, можно ли их использовать для технической помощи. Пишу и сам!!! По ночам пишу наслепую, когда все спят и не мешают своей болтовнёй. Сволочь природа взяла глаза, а они именно теперь так мне нужны <…>.
Удастся ли прислать тебе и моим харьковским друзьям некоторые отрывки из написанного? Эх, если бы жили вместе, как было бы хорошо! Светлее было бы в родной среде. Петя, ответь, дружок: что, если бы мне понадобилось перепечатать с рукописи листов десять на пишущей машинке, мог бы ты этот отрывок перепечатать, или это волынка трудная? Редакция требует два-три отрывка для оценки, и, гадюки, в блокнотах не берут – дай на машинке и с одной стороны! Ты хочешь сказать, что я и тебя хочу эксплуатировать, но, Петушок, ты же можешь меня к чёрту послать, от этого наша дружба не ослабнет ничуть.
Жму твою лапу и ручонку Тамары.
Не забывай.
Коля Островский".
Здесь всё понятно – работать необыкновенно трудно. Глаза не видят, рука пишет с трудом. Вопрос в другом. А именно во фразе "Редакция требует два-три отрывка для оценки". Какая редакция? Почему? Кого из редакторов заинтересовал никому не известный, ничего никогда не писавший или, во всяком случае, не публиковавший потенциальный автор?
Разумеется, то время не сегодняшнее, когда авторов, как говорится, хоть пруд пруди. Но и тогда их было не мало. И известные издательства не швырялись деньгами на публикации сомнительного характера, обращаясь главным образом к известным уже авторам. И тем не менее, из письма вполне очевидно, что Островский приступает к работе над романом, уже имея в виду какую-то редакцию, которая хочет получить его пробу пера для оценки. То есть сначала с кем-то через кого-то шли переговоры. Если это был Костров, то раньше, поскольку в 1931 году его в "Молодой гвардии" уже не было.
То, что Островский ещё не уверен в успехе своей работы, видно из письма Розе Ляхович от 28 мая 1931 г.:
" Розочка!
Ты можешь мне помочь, девочка, лишь одним (ответь). Если я пришлю тебе блокнот с частью – отрывком написанного, можешь ли ты перепечатать на машинке? Обязательные условия редакции – печатать лишь на одной стороне листа и оставляя поля с боков листа. Я много не пришлю. Если сможешь – напиши. Работаю, девочка, в отвратительных условиях. Покоя почти нет. Пишу даже ночью, когда все спят – не мешают. Могила, а не труд – отдал бы
/
жизни за секретаря, хоть на 25% похожего на тебя. Я взялся за непомерно тяжёлый труд. Все против меня, но за меня моя ослиная упрямость. Что получится в общем у меня, трудно судить, боюсь, что дальше корзины редактора моя работа не продвинется. Это будет видно, но много лучше получилось бы, если бы я не работал в таких отвратительных условиях.
Твой Николай".
Несколько противоречиво вспоминает о начале работы над романом сам Николай Островский. В интервью корреспонденту газеты "Ньюс кроникл", которое он давал 30 октября 1936 г., писатель говорил:
"Рассказывая в этой книге о своей жизни, я ведь не думал публиковать книгу. Я писал её для истории молодёжных организаций (Истомол), о гражданской войне, о создании рабочих организаций, о возникновении комсомола на Украине".
А в своей статье "Моя работа над повестью "Как закалялась сталь" Островский о работе для "ИСТМОЛа" пишет несколько иначе:
"У меня давно было желание записать события, свидетелем, а иногда и участником которых я был. Но занятый организационной работой в комсомоле, не находил для этого времени, к тому же не решался браться за столь ответственную работу.
Единственная проба, и то не литературного характера, а просто запись фактов, была коллективная работа с товарищем, написанная по предложению Истомола Украины. Я никогда раньше не писал, и повесть – это мой первый труд. Но готовился я к работе несколько лет. Болезнь давала мне много свободного времени, которого я раньше совершенно не имел. И я жадно и ненасытно утолял свой голод на художественную книгу. Нет худа без добра".
Действительно, в 1921 г. при ЦК ВЛКСМ была создана комиссия по изучению истории ВЛКСМ и юношеского движения России (потом СССР) ИСТМОЛ, имевшая отделения в республиках, в том числе и на Украине. Комиссия просуществовала до начала тридцатых годов. И вполне возможно допустить, что Островский когда-то с кем-то записывал исторические факты для этой организации. Более того, вполне возможно, что материалы отчётов о съездах и конференциях РКСМ 1918-1928 гг., опубликованные ИСТМОЛом, были использованы Островским в романе при описании сцен борьбы с троцкистской оппозицией. Но согласиться с тем, что книга писалась им первоначально, как книга для ИСТМОЛа, а не для публикации, никак нельзя. Скорее всего, это говорилось лишь для американского журналиста, для которого такой ответ был в то время наиболее желательным.
Все письма Островского того времени говорят о его желании написать книгу, которая бы понравилась и была опубликована.
В июне 1931 г. он пишет Жигиревой очередное письмо, сетуя на её молчание:
"У нас всё по-старому. Я продолжаю писать начатую мною книгу, о которой я в прошлом письме к тебе рассказывал. Я бы хотел, чтобы ты прочла хотя бы отрывки из написанного. Я могу тебе их прислать. Они будут напечатаны на машинке, и их легко читать. Я хотел бы знать твой отзыв, но ты ведь не отвечаешь мне".
Но ещё один вопрос по поводу рождения страниц романа Островского неожиданно возникает, когда мы читаем письмо Розе Ляхович, написанное 14 июня 1931 г.
"Милая Роза!
Только что прочли твое письмо. Сейчас же отвечаю. Рукопись в Новороссийск не посылай.
Если Петя вернётся в ближайшие 10—12 дней, то оставь копию у него, пусть с ней ознакомится. Позавчера я послал Петру рукопись 3-й главы для перепечатывания на машинке; я, видишь, его тоже мобилизовал на это дело. Я, конечно, знаю, что ты познакомишься с ней еще до возвращения Петра в Харьков. Она написана в блокноте хорошо и отчетливо, чернилами. В Москве такой кризис на бумагу, как и у вас, дорогие товарищи.
В ближайшую неделю мне принесут перепечатанную на машинке главу из второй части книги, охватывающей 1921 год (киевский период, борьба комсомольской организации с разрухой и бандитизмом), и все перепечатанное на машинке будет передано тов. Феденеву, старому большевику, ты, наверное, слыхала о нем, и он познакомит с отрывками своего друга-редактора. Там и будет дана оценка качеству продукции.
Я вполне с тобой согласен, что в Сочи было многое упущено, но что об этом говорить.
В отношении того, почему я посылаю Мите Хоруженко копии, отвечаю: я дал ему слово познакомить его с работой, и он напомнил мне о данном слове, и я считаю необходимым выполнить его, но на это есть время, и тебе, конечно, посылать не надо.
Очень жаль, что Пети нет. Надеюсь, что он скоро возвратится…
Я вспоминаю данное мне Паньковым обещание всемерно помочь в отношении начатой работы, но, знаешь, Роза, откровенно тебе скажу: у меня не лежит сердце
к этому высокообразованному европейцу. Хрен с ним! Вообще, есть люди, которые больше языками треплются, чем хотят сделать, и в то же время, когда их никто не заставляет, трепаться зря".
Из этого письма мы получаем несколько ответов на возникавшие ранее вопросы. Но с ответами появляются и новые неизвестные нашей задачи. Во-первых, наконец-то, возникает фамилия Феденёва в связи с книгой. Оказывается, ему будут отданы первые отрывки книги, с которыми он познакомит "своего друга-редактора". Стало быть, именно Феденёв мог быть одним из звеньев в цепочке Островский – роман – издательство. Он мог предложить своему другу-редактору познакомиться с творчеством молодого комсомольского работника, прикованного болезнью к постели. Учитывая партийный авторитет Феденёва и неординарную ситуацию с больным, но жаждущим что-то делать молодым человеком, редактор мог согласиться посмотреть литературные пробы Островского и попросить при этом следовать определённым правилам подготовки рукописи, то есть печатать материал на одной стороне листа с нужными интервалами и полями.
В этом нет абсолютно ничего крамольного, всё было бы естественным, кроме одного – почему Феденёв об этом не пишет в своих воспоминаниях, как, впрочем, не упоминают об этом ни Раиса Порфирьевна, ни Пётр Новиков, ни сам Островский.
Ещё один вопрос снимает почти это письмо. Это вопрос о Панькове, который некогда предложил свою помощь. По всей вероятности, Островский думал обратиться к нему с рукописью, но как видно из письма, не решился сделать этого, поскольку "не лежит сердце к этому высокообразованному европейцу", и что мне кажется не менее важным, Островский отнёс Панькова к людям, которые "больше языками треплются, чем хотят сделать", тогда как сам Островский всегда был человеком дела и любил себе подобных.
Любопытна и фраза Островского, адресованная к Ляхович: "Я вполне с тобой согласен, что в Сочи многое упущено, но что об этом говорить". Говоря об упущенном в Сочи, Островский, конечно, имел в виду, что уже там он мог начать писать книгу, в чём ему помогла бы приезжавшая туда Ляхович. То есть из этого можно предположить, что мысль о написании книги была ещё в Сочи, но осуществилась по приезде в Москву, да и то не сразу. Однако это лишь слабое предположение, так как никакого подтверждения тому пока нет.
Но самый главный вопрос, который рождает это письмо к Ляхович, связан с другим сообщением Островского:
"В ближайшую неделю мне принесут перепечатанную на машинке главу из второй части книги, охватывающей 1921 год (киевский период, борьба комсомольской организации с разрухой и бандитизмом)…"
Как так? Ещё не написана первая часть книги. Как явствует из этого же письма, написана только её третья глава, а уже пишется глава второй части. Почему?