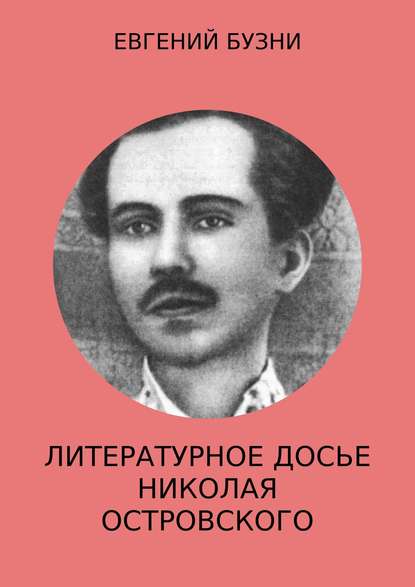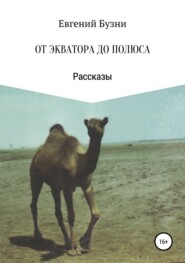По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Литературное досье Николая Островского
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Николай Островский.
Москва, 34, Мёртвый переулок, 12, кв. 2".
Итак, из писем, написанных Островским в апреле 1930 г., очевидно, что после его ухода из клиники и поселения в Мёртвом переулке, ему было довольно одиноко, поскольку его почти никто не навещал, за исключением нового друга Миши Финкельштейна. Да и со здоровьем после недавно перенесенной операции пока было не так хорошо, хотя и наметилось улучшение. Одно письмо он пишет целый день. И вот как об этом весьма коротком периоде московской жизни Островского вспоминал сам Михаил Финкельштейн:
"Из клиники Николай Алексеевич переселился на жительство в комнату дома в Мёртвом переулке. В комнате было сыровато, холодновато, что составляло главную опасность для здоровья Николая.
Вскоре случилось самое страшное – Николай заболел крупозным воспалением лёгких. Он стал терять сознание… В комнате наступило тяжёлое уныние, томительное молчание, а ещё более – зловещее ожидание. Казалось, Николай догорал, угасал, как свеча.
В течение одной ночи, которую родные и друзья Николая считали последней ночью, я дежурил у постели больного. Я мучительно вглядывался в его измождённое лицо. Мне было страшно в ожидании трагической развязки… Вдруг в какой-то миг едва слышным голосом он спросил: "Кто здесь?" Я ответил: "Миша". Видимо, он хотел ещё что-то сказать, но не мог.
Я вытер пот с лица и рук Николая, дал воды. Мы оба молчали.
– Дай, братишка, пятёрку, – прошептал Николай. Я дал ему руку и продолжал молчать. После некоторой паузы Николай опять шёпотом, но уже более внятно произнёс: Не унывай, Миша, это ещё не то, что ты думаешь. Мы ещё напишем книгу для комсомола".
Михаил Финкельштейн написал свои воспоминания в 1973 году. Тогда он мог и не вспомнить о том, что с Островским в ту предполагавшуюся последнюю ночь, когда он дежурил у постели больного, никого из родных, кроме жены Раи в Москве не было, как и близких друзей, о чём писал в письме Ляхович сам Островский. Поэтому он пишет, очевидно, ошибочно, что эту ночь "родные и друзья Николая считали последней ночью". Об этом можно и не говорить. Но в этих воспоминаниях важно другое – это то, что Островский был настолько сильно болен, что даже являлась угроза скорой смерти.
И в свете этого совершенно удивительными кажутся воспоминания Раисы Порфирьевны Островской об этом же коротком периоде их жизни в Москве:
"Я продолжала работать на консервной фабрике. Наш рабочий день с Николаем начинался в 5 утра. Надо было перестелить постель, накормить его, сделать все, чтобы он мог выдержать мое 10—12-часовое отсутствие. Николай не допускал мысли, чтобы я только ухаживала за ним. Да и надо было зарабатывать на жизнь.
К тому времени я была уже кандидатом в члены партии. Николай помогал мне, радовался моим успехам. «Если жена будет отставать от мужа, – говорил он, – брак будет неравен, а неравный брак разрушает основу счастья, дружбу и взаимное уважение».
Когда я возвращалась домой, он засыпал меня вопросами о жизни фабрики, о работе партийной и комсомольской организаций и вообще просил подробнее рассказать о проведенном дне.
– Мне очень нужны книги, – сказал он как-то вечером. – Не могла бы ты по общественной линии взять на себя передвижную библиотеку? И приносила бы мне книги.
Откровенно сказать, этот вопрос меня удивил. Нужны книги! Но кто их будет ему читать? И все же я обратилась за советом в фабком, там одобрили мое намерение создать «передвижку», так как своей библиотеки фабрика не имела.
И я стала фабричным библиотекарем на общественных началах, получив возможность приносить Николаю необходимую литературу. Сейчас не могу припомнить названия книг. Но поскольку читать приходилось в основном мне, помню, что это была главным образом литература о гражданской войне. Приносила и художественную литературу.
В то время часто навещали Николая И. П. Феденев и М. 3. Финкельштейн, с которым он познакомился и подружился в клинике. Они тоже читали ему газеты и
книги.
Оставаясь один, Коля писал письма друзьям. Перед уходом на работу я готовила ему карандаши и ставила в тяжелом подстаканнике на стул, придвинутый к его
кровати. На кровати с правой стороны в папке оставляла бумагу.
Хотя Николай тогда еще немного видел, но следить за тем, что и как писал, не мог. Лежал он навзничь, неподвижно, поэтому писал наугад, строка находила на строку, слово на слово. Читать написанное им было трудно. Но товарищи научились разбирать его почерк.
Однажды, когда я вернулась с работы, он встретил меня словами:
– Побыстрее справляйся со своими делами, садись и кое-что перепиши.
Я решила, что речь идет об очередном письме к кому-то из друзей.
– Нет, это не письмо, – возразил он. – Садись и пиши. И пока ни о чем не расспрашивай и не удивляйся тому, что будешь писать…
Так началась запись романа «Как закалялась сталь».
Когда я возвращалась с работы, он в первую очередь просил переписать написанное им за день. Потом по несколькураз перечитывала ему записи, он внимательно слушал, что-то на ходу поправлял, какие-то куски тут же выбрасывал. Еще не было опыта, знаний, но было огромное желание работать, приносить пользу людям.
Так проходили дни.
Но вскоре работа была прервана: врачи настоятельно рекомендовали после операции ехать в Сочи, в Мацесту. Лишь осенью, вернувшись в Москву, Николай снова приступил к систематической работе над романом".
Это воспоминание поразительно не соответствует апрельским письмам Островского, который сообщает в последнем из них о том, что собирается возвращаться в Сочи 2 мая, а ведь выписался он из клиники 14 апреля. Мог ли он, приехав в довольно неустроенную коммунальную квартиру, к дневному шуму которой ещё необходимо было привыкнуть, в эти две недели до первого мая, не оправившись как следует от недавно перенесенной операции, да вдобавок заболев крупозным воспалением лёгких, о чём вспоминал Финкельштейн, мог ли он при этом всём начать писать свой роман и не сообщить об этом ничего в письмах своим ближайшим друзьям? Мне думается, этого произойти просто не могло. Тем более что здесь есть ещё одно противоречие.
В книге "Николай Островский" Раиса Порфирьевна описывает рассматриваемый период жизни в Москве примерно так же, как в книге "Воспоминания о Николае Островском". Но ту есть одна деталь. Цитируя письмо Островского к Ляхович от 30 апреля 1930 г., Раиса Порфирьевна к словам "…и ещё одно горе – вас не будет" даёт следующее пояснение:
"Р. Ляхович собиралась переехать в Москву, но это дело отложилось. П. Новиков и М. Карась обещали приехать в гости и не приехали".
Казалось бы, ничего особенного в этом пояснении нет, но вот что пишет Николай Новиков в своих воспоминаниях, относящихся к этому же самому периоду:
"Следующая встреча с Островским была 1 мая 1930 года. Вместе с Моисеем Карасём мы поехали в Москву повидаться с другом и заодно посмотреть первомайскую демонстрацию.
Имея экскурсионные билеты Общества пролетарского туризма и экскурсий, мы беспрепятственно влились в колонны, идущие на Красную площадь. Прошли мимо трибуны правительства, и людской поток вынес нас на Кремлёвскую набережную. Оттуда по Кропоткинской улице добрались до тихого переулка.
Дверь в квартиру открыла соседка. Вошли в небольшую узкую комнату, отгороженную от другой дощатой, с просветами, ещё неоштукатуренной перегородкой. У перегородки кровать Николая. Рядом на табуретке радио. На одном окне – посуда, на другом – книги.
Николай лежал небритым.
– Не до этого было, ребята! – оправдывался он. – Все дни в хлопотах. Рая забегалась, пока получила ордер на жильё. А потом надо было достать доски и сделать перегородку. Я здесь уже две недели – выписали из клиники четырнадцатого апреля и опять рекомендовали курортное лечение. А тут ещё матушка пишет, что домоуправление требует освободить квартиру в Сочи: мол, такой жилищный кризис, а вы одна занимаете две комнаты. Вот сейчас и гадаем, как поступить.
Обрадованные нашим приездом Николай и Рая рассказывали о своей жизни, о перспективах дальнейшей работы "Райкома" (так мы называли в семейном кругу Раю), о политических новостях в Москве. О тяжёлой зиме, проведенной в клинике МГУ, Николай говорил неохотно, скупо. И мы не расспрашивали.
Утром второго мая купили железнодорожные билеты, договорились о вызове машины "скорой помощи". Лестница широкая, нести Николая было легко. Вдвинули носилки в автомашину, забрались сами, и она понеслась, гудя сиреной. Коля шутил над превращением меня и Карася в "братьев милосердия".
В вагоне, чтобы расширить место на нижней полке, подставили сбоку чемоданы, сверху положили два матраца. Островский уехал в Сочи".
Описывая столь подробно весьма краткую встречу с Островским, Новиков ничего не говорит о том, что его друг начал писать книгу, хотя такой значительный факт в жизни больного человека невозможно было утаить ни самому Островскому, ни его жене, которая в своих воспоминаниях вообще отрицает приезд Новикова и Карася в это время.
Ещё больше непонятного в этот незначительный отрезок времени вносят воспоминания Феденёва. Вот что он пишет весьма коротко, но определённо по поводу апреля 1930 г.:
"В 1930 году Островский поселился в Москве в переулке с мрачным названием «Мёртвый».
Забегая к нему со службы, уставший, я часами сидел и слушал его рассказ о проделанной работе (он уже писал тогда свой роман). Вот он лежит передо мной, и несгибаема его сила воли, а я раскис. Позор! Становилось стыдно за себя.
Раиса Порфирьевна тогда работала на фабрике, вела общественную работу, возвращалась домой поздно. Коля всегда радостно встречал свою подругу. Она рассказывала о своей работе, и они вместе решали возникавшие вопросы.
– Это моя воспитанница, и я счастлив, что она принята в партию, – говорил Островский".
По воспоминаниям Иннокентия Павловича Феденёва получается, что в эти две недели пребывания Островского в Мёртвом переулке ему доводилось быть частым гостем Николая и, если не был свидетелем, то знал о начале работы над романом. Почему же тогда в письме Жигиревой Островский подчёркивает в приписке, "Оказалось так, что у нас нет в Москве ни одного друга (один парень, что приезжал к тебе)", имея в виду Финкельштейна?
О своём друге Феденёве Островский вспомнит позже, в сентябре 1930 года, когда встретится с ним в Сочи и напишет об этом Жигиревой:
"В санатории находятся 2 моих приятеля – Пузыревский и Феденёв. Они мне помогут перебраться в Мацесту".