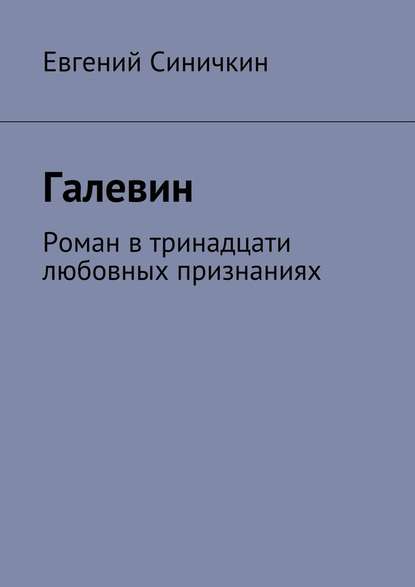По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Галевин. Роман в тринадцати любовных признаниях
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Дмитрий, – обратился я к редактору, – чушь какая-то. Я не ставил Тершову шесть с половиной.
Тень безграничной усталости омрачила лицо редактора.
– Я поставил, – сказал он. – Нельзя ставить меньше.
– Почему – нельзя? Если больше не заслужил?
Редактор глядел на меня с жалостью. Так смотрят на щенка с перебитой лапой. Или на ребёнка с неизлечимым генетическим заболеванием. Он понимал, что меня уже не спасти. Бракованный товар. Преступный инфантилизм. Идеологическая неотения.
– У редакции с ним хорошие отношения, – пояснил Егоров. – Он даёт нам интервью. Никогда не отказывает. Мы не должны с ним ругаться.
Егорову оставалось сказать: «Это пресса, детка» – и бросить воображаемую трубку.
Мой уход напрашивался давно. Честно говоря, журналистика осточертела. В первую очередь – спортивная. Футбол и хоккей издавна заменяют нашим людям культуру. В советское время заменяли религию. И если религия – опиум народа, то профессиональный спорт, выходит, – героин. Я не против распространять марихуану и ЛСД. Они не убивают. Не вызывают зависимость. Но героин – это совсем другой разговор.
* * *
Июньская ночь лежала за потемневшими стёклами. Мир дремал у порога. Вся мера глубины и разнообразия жизни ясно предстала в этот час на демаркационной линии тьмы и света. Я перечитывал диплом. Назавтра поставили защиту. Исследование казалось бесконечным, словно звёздное небо над головой. Точнее – в окне. Да и звёздным небо не было. Так, средней небеснотелости. Где-то поблескивало, случайно и ненавязчиво.
Шесть лет учёбы позади. Позади шесть лет глупостей и бреда. Принёсших не знания и опыт, а разочарования и язву. Шесть лет в дерьме и позоре.
Иногда мерзко становится на душе, когда вспоминаешь. Отчасти потому, что вспоминаешь. Что можешь помнить. Имей наша долговременная память те же семь регистров, что и кратковременная, – возможно, было бы легче. Не истязало бы с таким мучительным отчаянием чувство повсеместного абсурда.
Существуют в мире точные науки. А значит, существуют и неточные. Логично, что существуют и ненауки. Может быть, они хотят вырасти в науки. Хотят, чтобы их науками считали. (Хотеть не возбраняется. Я вот хочу ночь любви со Скарлетт Йоханссон. Аналогия более чем справедливая. Наши мечты имеют равные возможности сбыться.) Но не судьба.
Так я превратился в студента журфака.
На лекциях продержался две недели. (Благо поступил на заочное отделение.) За это время я усвоил несколько премудростей факультета.
Во-первых, допустима единственная разрешённая трактовка литературного произведения. С этого начала преподавательница по введению в теорию литературы. Стало ясно, что теория к литературе отношения не имеет. И что Умберто Эко к нам точно не приедет.
Во-вторых, мы – бездари, которые ничего не добьются. Никогда. На вступительной лекции по экономике я насчитал четыре парафраза этой сентенции. И семь напоминаний, что читавшая лекцию женщина – обладатель красного диплома. Она производила странное впечатление. Этакий пятидесятилетний сорванец. Вечно уязвлённая, голосистая, заплаканная, Муратова повсюду различала сомнения в её богоизбранности. Вероятно, она была иудейкой. Если не по крови, то, несомненно, идейной.
Мне пришлось с ней столкнуться ещё раз. Во время экзамена на третьем курсе. У неё была крайне своеобразная методика оценки знаний учащихся. Баллы зависели от количества и стоимости принесённых даров. Без букета и внушительного набора конфет подходить с зачёткой не имело смысла. С того момента я отчего-то невзлюбил экономику.
В-третьих, перед лекциями нужно хорошенько высыпаться. Не ради здоровья, правда. Ради того, чтобы эти лекции записать. Часть учителей – большая, увы, – давно перешагнула рубеж глубокой старости. Настолько давно, что при расчёте средней продолжительности жизни в государстве их, кажется, не учитывали. Или только благодаря им этот показатель не утвердился на отметке в сорок два года?
Они много знали. Неслыханно много. Несказанно много. Это было одновременно плюсом и минусом. Ведь какой прок был нам от их знаний, если сказать они не могли? А мы не могли услыхать? Лектор помнил начало фразы. На середине – всё забывал. (Будто улетал в дивный старый мир. Где «Чайная» стоила меньше двух рублей, а книги утешали вклейками с перечислением опечаток.) Наступала пауза. Продолжительная. Две-три минуты. Мы непроизвольно засыпали. По возвращении из царства грёз обычно слышали, как лектор перескакивал на другую тему. В редких случаях он всё-таки завершал предложение. И тогда мы сталкивались с иным препятствием – а с чего он начал?
Нам рассказывали о ключевых вопросах бытия. Объясняли, что главное качество журналиста – партийность. (Потому что так было написано в учебнике, изданном при Хрущеве.) Что сокращение «аська», используемое людьми для обозначения программы ICQ, имеет древние корни в русском языке. Так как этимологически восходит к просторечному восклицанию «ась». Что мы должны верить в бога, потому что Лев Толстой – гений. Что за один семестр можно изучить полный курс литературы двадцатого века. Что для понимания эстетики Джойса хватит трёх глав «Улисса». Что нельзя не упиваться журналистскими трудами Венедиктова, Соловьёва и Познера. Что нужно учиться мыслить критически, но спорить с профессорами – дурной тон. Что мы должны любить смотреть телевизор. Что публикация фотографий своего обеда в «Инстаграме» – это тоже журналистика…
Если опросить всех студентов журфака, то можно найти тысячи фактов загадочного поведения экзаменаторов. Потом заложить эти данные в суперкомпьютер. Попросить дать оценку случившемуся. Думаю, машина выведет заключение – намеренный алогизм. И, нарушив программу, добавит короткое всеобъемлющее ругательство.
Безразличие к результатам экзаменов выработалось у меня на первом курсе.
Я сидел перед экзаменатором. По билету требовалось ответить на два лёгких вопроса. Первый: «Что такое сюжет и фабула?». Второй: «Отличия между романтизмом и реализмом». Ответ занял полторы минуты. Экзаменаторша, ожидавшая более пространного монолога, удивилась:
– Вы больше ничего не желаете добавить? – спросила она.
– А вы?
Наверное, это прозвучало грубо. Доктор наук Орлова изучала меня глазами женщины трудной судьбы. Которая к двадцати пяти годам успела разочароваться в жизни. Она тяжело вздохнула. Опустила голову.
– По какому учебнику готовились? – спросила она, не поднимая на меня взор.
– Простите – что?
– Какая фамилия у автора учебника?
До того дня я не представлял, что бывают авторы учебников. (Хотя, может, и представлял – разве сейчас вспомнишь? О чём я точно не думал – что фамилии авторов следует заучивать.)
Я ответил искренне – понятия не имею. Орлова изобразила задумчивость.
– Что ж, тогда я делаю неутешительный вывод. Вы списали.
– Списал что и откуда? Я зашёл в кабинет без вещей. У меня нет ни ручки, ни бумаги, ни книг. Я отвечаю без подготовки.
– Ой, вы же мужчина, зачем оправдываться начинаете?
– Я не…
– Всё. Всё, хватит. Я буду ждать вас на пересдаче.
Через три дня состоялась пересдача. Нас было четверо. Я и три девушки. Требовалось совместными усилиями ответить без подготовки на двадцать вопросов. Они были элементарные. На уровне – определить размер конкретного стихотворения. Ответил на восемнадцать. Два ушли однокурсницам. Все получили «удовлетворительно». Не за ошибки – за факт пересдачи.
На факультете я узнал главную для человечества опасность – тире.
Экзамен по современному русскому языку предусматривал диктант и устный зачёт. С точки зрения русского языка ошибок я не допустил. Поэтому алой кляксе на экзаменационном листе нашлось иное объяснение.
– Молодой человек, тире – это опаснейший знак, – сообщила почтеннейшего возраста кандидат наук.
– Но какое отношение этот нюанс имеет к правилам русского языка? – закономерно возразил я.
– Вы не понимаете. Сейчас все лепят тире. Повсюду. При любой возможности. Совершенно забыли о двоеточии.
– И поэтому вы считаете, что моё тире – ошибка?
– Разумеется.
Мы обсуждали сложное бессоюзное предложение. Вторая часть содержала результат действий первой. Между ними вставало «поэтому». Одно из самых бесспорных тире в моей жизни.
– Это ваши предубеждения, – заявили мне в ответ. – Вы должны прочувствовать опасность этого знака.
– Да поймите вы, что двоеточие тут недопустимо, – я бросился в финальную атаку. – Если вы используете двоеточие, то меняете причинно-следственные связи. Вторая часть из следствия делается причиной. Это полностью меняет смысл высказывания…
– Перестаньте спорить, – отрезала кандидат наук. – Я вам уже пояснила ошибку.
Вкупе с отметкой, проставленной в зачётку, меня наградили устной характеристикой. В ней было одно слово: «Шовинист».
Тень безграничной усталости омрачила лицо редактора.
– Я поставил, – сказал он. – Нельзя ставить меньше.
– Почему – нельзя? Если больше не заслужил?
Редактор глядел на меня с жалостью. Так смотрят на щенка с перебитой лапой. Или на ребёнка с неизлечимым генетическим заболеванием. Он понимал, что меня уже не спасти. Бракованный товар. Преступный инфантилизм. Идеологическая неотения.
– У редакции с ним хорошие отношения, – пояснил Егоров. – Он даёт нам интервью. Никогда не отказывает. Мы не должны с ним ругаться.
Егорову оставалось сказать: «Это пресса, детка» – и бросить воображаемую трубку.
Мой уход напрашивался давно. Честно говоря, журналистика осточертела. В первую очередь – спортивная. Футбол и хоккей издавна заменяют нашим людям культуру. В советское время заменяли религию. И если религия – опиум народа, то профессиональный спорт, выходит, – героин. Я не против распространять марихуану и ЛСД. Они не убивают. Не вызывают зависимость. Но героин – это совсем другой разговор.
* * *
Июньская ночь лежала за потемневшими стёклами. Мир дремал у порога. Вся мера глубины и разнообразия жизни ясно предстала в этот час на демаркационной линии тьмы и света. Я перечитывал диплом. Назавтра поставили защиту. Исследование казалось бесконечным, словно звёздное небо над головой. Точнее – в окне. Да и звёздным небо не было. Так, средней небеснотелости. Где-то поблескивало, случайно и ненавязчиво.
Шесть лет учёбы позади. Позади шесть лет глупостей и бреда. Принёсших не знания и опыт, а разочарования и язву. Шесть лет в дерьме и позоре.
Иногда мерзко становится на душе, когда вспоминаешь. Отчасти потому, что вспоминаешь. Что можешь помнить. Имей наша долговременная память те же семь регистров, что и кратковременная, – возможно, было бы легче. Не истязало бы с таким мучительным отчаянием чувство повсеместного абсурда.
Существуют в мире точные науки. А значит, существуют и неточные. Логично, что существуют и ненауки. Может быть, они хотят вырасти в науки. Хотят, чтобы их науками считали. (Хотеть не возбраняется. Я вот хочу ночь любви со Скарлетт Йоханссон. Аналогия более чем справедливая. Наши мечты имеют равные возможности сбыться.) Но не судьба.
Так я превратился в студента журфака.
На лекциях продержался две недели. (Благо поступил на заочное отделение.) За это время я усвоил несколько премудростей факультета.
Во-первых, допустима единственная разрешённая трактовка литературного произведения. С этого начала преподавательница по введению в теорию литературы. Стало ясно, что теория к литературе отношения не имеет. И что Умберто Эко к нам точно не приедет.
Во-вторых, мы – бездари, которые ничего не добьются. Никогда. На вступительной лекции по экономике я насчитал четыре парафраза этой сентенции. И семь напоминаний, что читавшая лекцию женщина – обладатель красного диплома. Она производила странное впечатление. Этакий пятидесятилетний сорванец. Вечно уязвлённая, голосистая, заплаканная, Муратова повсюду различала сомнения в её богоизбранности. Вероятно, она была иудейкой. Если не по крови, то, несомненно, идейной.
Мне пришлось с ней столкнуться ещё раз. Во время экзамена на третьем курсе. У неё была крайне своеобразная методика оценки знаний учащихся. Баллы зависели от количества и стоимости принесённых даров. Без букета и внушительного набора конфет подходить с зачёткой не имело смысла. С того момента я отчего-то невзлюбил экономику.
В-третьих, перед лекциями нужно хорошенько высыпаться. Не ради здоровья, правда. Ради того, чтобы эти лекции записать. Часть учителей – большая, увы, – давно перешагнула рубеж глубокой старости. Настолько давно, что при расчёте средней продолжительности жизни в государстве их, кажется, не учитывали. Или только благодаря им этот показатель не утвердился на отметке в сорок два года?
Они много знали. Неслыханно много. Несказанно много. Это было одновременно плюсом и минусом. Ведь какой прок был нам от их знаний, если сказать они не могли? А мы не могли услыхать? Лектор помнил начало фразы. На середине – всё забывал. (Будто улетал в дивный старый мир. Где «Чайная» стоила меньше двух рублей, а книги утешали вклейками с перечислением опечаток.) Наступала пауза. Продолжительная. Две-три минуты. Мы непроизвольно засыпали. По возвращении из царства грёз обычно слышали, как лектор перескакивал на другую тему. В редких случаях он всё-таки завершал предложение. И тогда мы сталкивались с иным препятствием – а с чего он начал?
Нам рассказывали о ключевых вопросах бытия. Объясняли, что главное качество журналиста – партийность. (Потому что так было написано в учебнике, изданном при Хрущеве.) Что сокращение «аська», используемое людьми для обозначения программы ICQ, имеет древние корни в русском языке. Так как этимологически восходит к просторечному восклицанию «ась». Что мы должны верить в бога, потому что Лев Толстой – гений. Что за один семестр можно изучить полный курс литературы двадцатого века. Что для понимания эстетики Джойса хватит трёх глав «Улисса». Что нельзя не упиваться журналистскими трудами Венедиктова, Соловьёва и Познера. Что нужно учиться мыслить критически, но спорить с профессорами – дурной тон. Что мы должны любить смотреть телевизор. Что публикация фотографий своего обеда в «Инстаграме» – это тоже журналистика…
Если опросить всех студентов журфака, то можно найти тысячи фактов загадочного поведения экзаменаторов. Потом заложить эти данные в суперкомпьютер. Попросить дать оценку случившемуся. Думаю, машина выведет заключение – намеренный алогизм. И, нарушив программу, добавит короткое всеобъемлющее ругательство.
Безразличие к результатам экзаменов выработалось у меня на первом курсе.
Я сидел перед экзаменатором. По билету требовалось ответить на два лёгких вопроса. Первый: «Что такое сюжет и фабула?». Второй: «Отличия между романтизмом и реализмом». Ответ занял полторы минуты. Экзаменаторша, ожидавшая более пространного монолога, удивилась:
– Вы больше ничего не желаете добавить? – спросила она.
– А вы?
Наверное, это прозвучало грубо. Доктор наук Орлова изучала меня глазами женщины трудной судьбы. Которая к двадцати пяти годам успела разочароваться в жизни. Она тяжело вздохнула. Опустила голову.
– По какому учебнику готовились? – спросила она, не поднимая на меня взор.
– Простите – что?
– Какая фамилия у автора учебника?
До того дня я не представлял, что бывают авторы учебников. (Хотя, может, и представлял – разве сейчас вспомнишь? О чём я точно не думал – что фамилии авторов следует заучивать.)
Я ответил искренне – понятия не имею. Орлова изобразила задумчивость.
– Что ж, тогда я делаю неутешительный вывод. Вы списали.
– Списал что и откуда? Я зашёл в кабинет без вещей. У меня нет ни ручки, ни бумаги, ни книг. Я отвечаю без подготовки.
– Ой, вы же мужчина, зачем оправдываться начинаете?
– Я не…
– Всё. Всё, хватит. Я буду ждать вас на пересдаче.
Через три дня состоялась пересдача. Нас было четверо. Я и три девушки. Требовалось совместными усилиями ответить без подготовки на двадцать вопросов. Они были элементарные. На уровне – определить размер конкретного стихотворения. Ответил на восемнадцать. Два ушли однокурсницам. Все получили «удовлетворительно». Не за ошибки – за факт пересдачи.
На факультете я узнал главную для человечества опасность – тире.
Экзамен по современному русскому языку предусматривал диктант и устный зачёт. С точки зрения русского языка ошибок я не допустил. Поэтому алой кляксе на экзаменационном листе нашлось иное объяснение.
– Молодой человек, тире – это опаснейший знак, – сообщила почтеннейшего возраста кандидат наук.
– Но какое отношение этот нюанс имеет к правилам русского языка? – закономерно возразил я.
– Вы не понимаете. Сейчас все лепят тире. Повсюду. При любой возможности. Совершенно забыли о двоеточии.
– И поэтому вы считаете, что моё тире – ошибка?
– Разумеется.
Мы обсуждали сложное бессоюзное предложение. Вторая часть содержала результат действий первой. Между ними вставало «поэтому». Одно из самых бесспорных тире в моей жизни.
– Это ваши предубеждения, – заявили мне в ответ. – Вы должны прочувствовать опасность этого знака.
– Да поймите вы, что двоеточие тут недопустимо, – я бросился в финальную атаку. – Если вы используете двоеточие, то меняете причинно-следственные связи. Вторая часть из следствия делается причиной. Это полностью меняет смысл высказывания…
– Перестаньте спорить, – отрезала кандидат наук. – Я вам уже пояснила ошибку.
Вкупе с отметкой, проставленной в зачётку, меня наградили устной характеристикой. В ней было одно слово: «Шовинист».