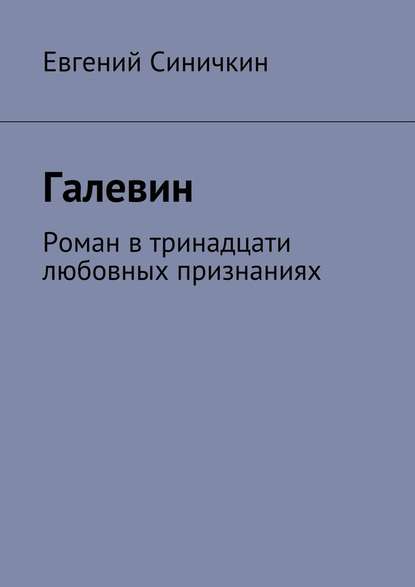По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Галевин. Роман в тринадцати любовных признаниях
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В коридоре царила разруха. Справа – раскуроченный шкаф с дверью, болтающейся на одной петле. Потемневшие ошмётки синтепона, вырванные из зимней куртки. На потолке – разбитая люстра. Покачивается. В ней – мигающая крупной дрожью одинокая лампочка-эпилептик. Под ногами – осколки большого зеркала вперемешку со стеклом…
Его кабинет.
Дверь заперта.
Мне нужно увидеть его в последний раз. Попрощаться. Ломать дверь? На грохот могут прибежать соседи. Может, полицию уже вызвали…
Не знаю.
Надо торопиться.
В гостиной – сползающие к полу червяки разодранных обоев. На тумбочке – рыдающий граммофон. Антикварный овальный стол из махагона. Свежие царапины от ногтей на лакированной поверхности. На столе – упитанная картонная папка. Внутри – испещрённые неровным, шатающимся почерком листы бумаги.
Знобит. Вялое пиликанье сирен. Или показалось? Не знаю. Никакой уверенности.
Дрожащими руками я загрёб папку. Поправил резинки. И в полузабытьи ринулся наутёк из этого дома.
Записки Галевина
Чтобы судить о человеке, надо по крайней мере проникнуть в тайники его мыслей, страданий, волнений. Быть может, я льщу себе и придаю судьбоносным событиям прошедших лет больше значения, чем в них есть на самом деле, когда надеюсь, что моя печальная жизнь способна заинтересовать людей посторонних, но во мне не осталось сил молчать, прикрывая холодным спокойствием лица разрушительные, безжалостные тайфуны отчаяния, бушующие в моей душе. Мне иногда кажется, что всё случившееся – жуткий сон, болезненный, как горячительный бред алкоголика, и бесконечный, как мрак глубокого космоса. Эта абсурдная, пустая, ничем не подкреплённая, но такая сладкая и утешительная надежда, пожалуй, единственная причина, почему я до сей поры жив. Вечерами я тихонько, будто под сурдинку, шепчу бессвязные слова молитвы, уповая на то, что какая-нибудь великая сила Вселенной, какое-нибудь благодушное божество смилостивятся над потерявшимся, опустившимся, раскаивающимся грешником и помогут мне проснуться…
Свадьба моих родителей была одним из тех событий, которое, представляясь поначалу светлым и счастливым, затем становится первым шагом к кошмару длительностью в жизнь. Знакомство на обыденной студенческой вечеринке, где дешёвое, кислое пиво одурманивает разум эффективнее морфия, переросло в любовные игрища на узкой, скрипучей кровати в общежитии. Глупцы, они вряд ли с полной ясностью понимали, к чему могут привести их пылкие признания и неуклюжие объятия под дырявым шерстяным одеялом; опьянев от радостей, свойственных безрассудной молодости, они позабыли об осторожности и в один трагичный день оказались перед кабинетом гинеколога районной поликлиники. Немолодая женщина в белом халате, привыкшая за долгие годы наблюдений к дрожащим рукам юных любовников, сверкающих бледностью смущённых лиц, думается мне, с хорошо укрытой от взгляда печалью смотрела на моих испуганных родителей. Знай они, кем вырастит их чадо, какие омерзительные деяния сотворит, знай они, сколько боли причинит ни в чём не повинным людям, сколько злых поступков будет отягощать его склонную к компромиссам, податливую как тесто совесть, знай они, как много крови прольётся по его вине, каким монстром окажется плод их простосердечной любви, – мне бы никогда не видеть света.
Поддавшись настойчивым убеждениям близких и дальних родственников, живущих, как непростительно часто бывает, традициями и привычками, последовав советам сиюминутных друзей, попав под обаяние флёра лёгкой влюблённости и романтики, к тому моменту изрядно поизносившемуся, мои родители влезли в долги, чтобы организовать сатрапическое торжество на зависть остальным. Изысканное платье цвета магнолии, вечный символ чистоты и невинности, с трудом прикрывавшее отчётливо выделявшийся живот, вплетённый в русые волосы венок из флердоранжа, чья непорочная белизна вступала в резкий контраст с маджентовыми мешками под глазами, закономерным следствием изматывающей бессонницы; арендованный чёрный смокинг с малиновым шёлковым камербандом, вызывавший трепет восхищения и противоречивые желания – прикоснуться к дивному творению портных, нежному, как пенная бахрома океанской волны, или, исполнившись боязни, не осквернять филозелевое чудо следами вымазанных в майонезе пальцев; многочисленные гости в изъеденных молью нарядах, вытащенных из затхлого небытия древних шкафов, сваливавшие в кучу, будто подготавливая площадь для грандиозного аутодафе, коробки с безвкусными наборами постельного белья и однообразными сервизами, облизывавшие губы и потиравшие носы в предвкушении дармовых яств и, наконец, дорвавшиеся до праздничных блюд, с нетерпением ожидая священного момента, когда, обессиленные от бурных возлияний, с невидящим, осоловелым взором, в испачканных подливкой и икрой костюмах, они смогут забыться в долгом, благословенном сне, уткнувшись лицом в недоеденный салат, – другими словами, свадьба моих родителей безоговорочно следовала канонам истинного пира сумасбродства во время подкрадывавшейся из-за угла чумы. Похмельное пробуждение, жаркое, удушливое, сухое, как ивово-коричневые пространства Атакамы, принесло с собой не только неконтролируемую жажду и головную боль, каждый луч солнца превращавшую в заточенный кинжал хладнокровного ассасина из келий таинственного Аламута, но и утрату любых иллюзий, отрадно пестованных накануне сердцами молодожёнов. Мать смотрела на скривившийся, помутневший лик отца, некогда представлявшегося ей благочестивым ангелом, а отец, вливавший в свое полыхающее, словно торфяной пожар, горло тёплую минералку, не мог отвести взгляд от алой сыпи засосов, обрамлявших тонкую бледную шею его ненаглядной принцессы; они, наблюдая за разбредающимися на полусогнутых ногах участниками пиршества, чувствовали бурлящим нутром, как развеиваются мечты о счастливой, благополучной жизни, как добрая сказка для весёлых детишек превращается в лишённый снисхождения и жалости натуралистический роман, как воздвигается с неумолимой твёрдостью могильного камня рукотворный памятник нищеты, лишений и разочарований.
Мои первые воспоминания относятся к тем годам, когда между родителями утвердились прочные отношения взаимной вражды. Отец после аспирантуры остался на родном химическом факультете; высокий, худощавый, всегда с растрёпанными светло-бурыми волосами, достававшими до узких мальчишеских плеч, с тусклыми карими глазами, волей природы переданными мне, он устроился лаборантом, через пару лет получил должность преподавателя и медленно вскарабкивался по карьерной лестнице, читая лекции первокурсникам и переписывая многострадальную кандидатскую диссертацию, продвигавшуюся с невиданным трудом; дома он появлялся редко, в основном поздней ночью, выбирая днём корпеть на работе, а вечера проводить в компании сослуживцев и университетских друзей; иногда, ввалившись домой пьяным, как некрасовский крестьянин, отец садился ко мне на кровать, костлявой рукой толкал меня в плечо, потом, отвернувшись и закрыв лицо ладонями, начинал плакать, едва слышно поскуливая, как испуганный пёс, и, уходя нетвёрдым, шумным шагом, клал на прикроватную тумбочку подтаявшую плитку молочного шоколада. Мать всю жизнь ассоциировалась у меня с тягучим, въевшимся в кожу запахом лекарств; от яркого костра девичьих надежд на счастливое супружество, не омрачённое невзгодами, засорившимися унитазами и прорванными батареями, осталось несколько крошечных угольков непрекращающейся грусти, от которых тянулась вверх узкая, как нить паутинки, полоска дыма, давно переставшая согревать разбитое сердце; без разбора, наплевав на предписания врачей, мать пичкала себя всеми успокоительными, какие могла отыскать: в небольшой прямоугольной деревянной шкатулке, отороченной разноцветным бархатом, лежали флаконы с настойками валерьяны, пиона, пустырника, высушенная трава страстоцвета и зверобоя, из которых она заваривала чай, чтобы запить таблетки антидепрессантов, добытых далеко не всегда законным способом; из квартиры она старалась не выходить, предпочитая душистой хвойности леса густой сигаретный дым, аннексировавший маленькую кухню, полевым цветам, восторженно приветствовавшим солнце, – пепел, падавший на старый сатиновый халат, который она, кажется, никогда не стирала, а белоснежным барашкам облаков, плывшим по голубому небосклону, – накрахмаленные, отбеленные рубашки дикторов новостей на голубом экране; её глаза, прежде, как рассказывали мне, яркие, искрившиеся тёплым блеском ляпис-лазури, стали серыми и холодными; в редчайшие моменты просветления, когда порывы безудержной деятельности захватывали её, мать садилась за зингеровскую швейную машинку, полученную в наследство от бабушки, и шила простыни и шторы, мастеровито управляясь с громоздким маховым колесом, словно опытный рулевой с массивным штурвалом бригантины; в те часы на потрескавшихся губах матери даже возникала улыбка.
Нужно ли говорить, что жили мы бедно, питались скудно, ходили в видавшей виды одежде, больше напоминая отчаявшихся жерминальских шахтёров, нежели жителей крупного мегаполиса начала двадцать первого века? За неделю до моего первого звонка, когда тёплое августовское солнце опускалось за крыши высотных блочных домов, отец принёс мне тёмно-синий костюм-двойку; с благоговейным трепетом, разложив подарок на кровати, я поглаживал хлопковый пиджак, воображая себя почтенным английским джентльменом, опиравшимся на трость с золотым набалдашником и снимавшим котелок перед проходившими мимо леди в гродетуровых платьях цвета потупленных глаз. По нескольку раз в день я залезал в дээспэшный шкаф с шатающимися ножками, тревожно оглядывая мое сокровище. Мысль о том, что костюм могут украсть, что он может свалиться с вешалки и порваться, что он может растаять, как прекрасное видение, придуманное гибнущим мозгом, приводила меня в состояние паники; лоб покрывался испариной, руки тряслись, как у несчастного на электрическом стуле, сердце, замирая на короткий отрезок времени, вновь пускалось в бешеный пляс, желая пробить дыру у меня в груди и убежать через неё в дальние страны; костюм был для меня любимой мягкой игрушкой, которую ребёнок с упоением подкладывает под щёку во время сна, голубым цветком, вышедшим из царства Морфея, обретшей плоть и не желавшей исчезать Сильфидой, блестящим Граалем, хранившимся в глубинах моего обветшалого Монсальвата. В приподнятом до горных вершин настроении, облачившись в желанные обновки, с элегантностью прирождённого аристократа я обходил позеленевшие лужи, образовавшиеся в дорожных выбоинах. Безмятежный, как буддистский монах в период Вассы, и счастливый, как удачливый влюблённый, после долгих терзаний сорвавший поцелуй с обожаемых губ, наперекор здравому смыслу я наслаждался промозглым утром первого дня осени, громкими выхлопами летевших по дорогам автомобилей, мерзостным амбре мусоровозов, по-медвежьему вальяжно переваливавшихся во дворах домов, мочившимися возле подъездов алкоголиками и базарной крикливостью толпы, собравшейся перед бело-голубыми стенами школы. Пошлая, обыденная действительность Беляева виделась мне волшебной страной фей и единорогов, порождённой богатой фантазией доброго сказочника. Не знаю, в том ли дело, что безудержной радостью светилось мое лицо, а на щеках аккуратным розаном алел румянец, или в том, что мои изношенные ботинки и целлофановый пакет, заменявший мне портфель, непроизвольно вызывали жалость у учителей, руководивших процессией первоклашек, однако меня поставили во главе торжественной колонны рядом с девочкой по имени Нелли. До последнего звука, умирающего ночью в глухом лесу, она соответствовала своему имени. Нелли была свежестью дневного бриза, подувшего на безжизненный берег моря суеты; в распущенных вороных волосах и черных глазах юной Тоски сияла томительная беспредельность ночи; прикосновение детской ручки, протянутой с чистосердечной улыбкой, пробудили неизведанные чувства и переживания. Я был смел, но в душе, а не в обхождении; не имея представления о том, как вести себя, как прятать переполнявшие меня эмоции, как не выглядеть юродивым шутом перед ацтекской богиней, сошедшей с картин Хесуса Эльгеры, я дрожал, словно берёзовый листок на сильном ветру. Мои ноги подкашивались. Я чувствовал себя жалким осквернителем священных вод океана, из которых вышла, поражая нетронутой красотой бытия, эта маленькая Афродита. Весь день – торжественная линейка, наставления директора, экскурсия по школе и первые уроки – казался миражом, готовым в любой миг раствориться. Всё было сном, трудно различимым абрисом в тумане неизвестности, гипнотической дымкой индейских костров…
Отношения с одноклассниками у меня не сложились. Дети сторонились меня как прокажённого, избегали смотреть в мою сторону, как если бы я был Джозефом Мерриком своего времени. Вместе с тем во внешности моей нельзя было отыскать черт необыкновенных или пугающих; на загорелой коже отсутствовали гниющие язвы и тошнотворные наросты, голова, покрытая каштановыми волосами, не выделялась пантагрюэлевскими размерами, все конечности были на месте и не производили впечатление деформированных. Свой гардероб, незатейливый, скромный, ограниченный, я старался содержать в чистоте, не позволяя себе приходить в школу в дурно пахнущей одежде. Месяцами я искал сверстника, не испытывавшего ко мне необъяснимого отвращения, и надеялся понять, за какие прегрешения меня подвергли этому жесткому остракизму. Усилия были тщетны. Беспрестанно наталкиваясь на преграды в своём стремлении излиться, душа моя, наконец, замкнулась в себе. Откровенный и непосредственный, я поневоле стал холодным и скрытным; вынужденное отшельничество лишило меня всякой веры в себя; я был робок и неловок, мне казалось, что во мне нет ни малейшей привлекательности, я был сам себе противен, считал себя уродом, стыдился своего взгляда. Я думал, что проклят небесами, которые прогневал в прошлой жизни; смотрясь в зеркало, я пытался различить на своем челе Каинову печать, утаённую от меня, но очевидную для всех остальных; я был Вуличем, окружённым десятками и сотнями Печориных. Чтобы чем-то занять себя на переменах и скучных уроках, отвлечься от всепожирающего чувства отчуждённости, я начал писать любовные письма к Нелли. В моих безыскусных посланиях читались детская непосредственность и подсознательное влечение к эстетическому великолепию. Завершив письмо, я бесщадно рвал его на мелкие части, складывал обрывки между страниц учебника и по дороге домой выбрасывал в мусорные ящики. Никто не должен был их прочитать. Я предпринимал все меры предосторожности, дабы мои сокровенные признания не попались кому-либо на глаза, но однажды допустил непростительную ошибку. Меня вызвали к доске, и в спешке я не успел убрать письмо, оставив его лежать на парте; когда я вернулся, письма уже не было. В ту секунду время остановилось. Мои зубы бились друг о друга так, как будто хотели искрошиться в порошок. Я боялся вздохнуть, выдохнуть, пошевелиться. Стыд сковал мои члены и тащил на плаху. На перемене меня казнили. Ребята, чьих имён я не могу вспомнить, закрыли дверь, попросили всех остаться и, демонстрируя завидный актёрский талант, во всеуслышание огласили рыдания моего доверчивого сердца. Смеялись безликие дети, учительница, кварцевые часы, висевшие над входом в класс, кактусы в горшках, стоявшие на подоконнике, пожелтевший кружевной тюль, ручки, карандаши, линейки, специально выбравшиеся из пеналов, и, разумеется, смеялась Нелли. Её задорный, звонкий хохот оглушал меня. Я не смел поднять глаз. После уроков мальчишки поймали меня за школой; я не видел, как они подошли и сколько их было; меня повалили в грязный снег; били в голову, по спине, в пах, душили брючным ремнем; они кричали, чтобы я держался подальше от Нелли, не смотрел на неё, не думал о ней; Нелли стояла в стороне, улыбалась своей беззлобной, прямодушной улыбкой, которая очаровала меня в первую нашу встречу; я сжался в комок, закрыл глаза и беззвучно плакал, осознавая, что здесь, на земле, ничто не осуществляется полностью, кроме несчастья.
В скором времени меня начали мучить ночные кошмары, избавиться от которых не удается до сих пор. Мне снилось, что я стою на пустыре, за каким-то полуразрушенным складом; фисташковое солнце, скупое и бесчувственное, озаряет раскромсанный, побелевший асфальт и мелкие клочья лоснящейся травы; тревога нависает кронами возникающих из ниоткуда деревьев; в мою сторону, обезличенные, бестелесные, пустые и страшные, движутся тени, полчища, легионы теней, они тянут руки, длинные и тонкие, как прутья; я пячусь, отворачиваюсь от них и бегу, хочу убежать, но бетон превращается в тягучий, вязкий песок; он засасывает меня, нет сил двинуть ногой, тени, деревья, солнце падают с посеревшего неба, и я задыхаюсь под тяжестью их полой ненависти. В другую ночь я мог видеть Армагеддон; большая часть мира уничтожена ядерным и химическим оружием; оставшиеся в живых люди мутировали в гигантских ящериц – новых динозавров, созданных безумным гением неизвестного апологета генной инженерии; сквозь густые заросли амазонских джунглей – откуда они появились? – я пробираюсь к своему дому, ищу маму, отца; зданий нет, никаких людей, путь усеян вывернутыми наизнанку трупами щенков, я натыкаюсь на широкую поляну; слышится лёгкий шорох, что-то опутывает мои ноги, с ужасом смотрю вниз, это гибкий, склизкий и холодный хвост ящерицы; из кустов ухмыляется раскрытая крокодилья пасть, на ландыши низвергаются хляби слюней, от которых несёт гнилым мясом; перламутровые угли глаз переливаются красно-фиолетовым огнём; ящерица говорит вкрадчивым голосом; слов не разобрать; нет, минутку, я различаю, понимаю её медоточивое шипение: «С возвращением, сынок, ты дома…». Сновидения переносили меня в гигантский дом в тысячу этажей, устроенный на манер бессистемного лабиринта; миллиарды лет я блуждал по замысловатым коридорам и нескончаемым лестницам, не отдавая себе отчёта в том, что должен делать; я мечтал выбраться из этого царства бликующих люминесцентных ламп, дырявых отопительных труб, из которых валили струи пара, мёртвых человеческих тел, лежащих вдоль азбантиевых стен, но не знал, где найти выход; моим единственным компаньоном был воробушек, прилетавший раз в сотню лет; наши встречи длились минуту, из хлебных крошек воробушек составлял слово «вечность» и улетал, бросая меня одного. Часто во время дрёмы я делался приглашённым врачом, проводившим независимую экспертизу психиатрической лечебницы; всякий раз мне попадался пациент, который был совершенно здоров, в больнице его удерживали против воли, не имея к тому ни малейших законных оснований; почему-то спасти я его мог, только устроив побег; нам удавалось выбраться из палаты, незамеченными мы добирались до высокой каменной стены, служившей забором, и уже перелезали, как внезапно я попадал в западню – в тесную коробку из плотного, жёсткого материала, с вырезанным окошком для глаз, откуда лился ласковый солнечный свет; затем я падал, но как-то неспешно, словно в замедленной съёмке; лучи солнца, пробивавшиеся через окошко, более не касались меня, они светили на недостижимой высоте, а в коробке не утихало эхо множества голосов: «Ты наш…». Я просыпался с криком, в ледяном поту, давясь жгучими слезами, стараясь унять сердце, мчавшееся ураганным карьером, как спятившая лошадь. Ложась спать, я боялся не проснуться и навсегда остаться заточенным в мире кошмаров. Сон ассоциировался у меня со смертью.
– Пожалуйста, не надо, – жалобно просил я маму, когда глубокой ночью, завидев свет в комнате, она приходила его выключить.
– Это что за фантазии такие? – спрашивала она с раздражением. – Прекрати-ка электроэнергию расходовать, она, к твоему сведению, не бесплатная.
– Но мне страшно, мама, пожалуйста, – я умолял, мертвой хваткой вцепившись в подушку.
– Чего ты боишься?
– Что темнота поглотит меня, а с ней придёт смерть. Я не хочу умирать.
– Ой, да кому ты нужен, – вскрикивала она раздражённо и, щёлкая выключателем, говорила: – Спи давай. Шизик, ей-богу.
Это теперь, по прошествии полутора десятков лет, мысли о собственной смерти вызывают у меня разве что лёгкий смешок: ужасы смерти не властны над душой, свыкшейся с ужасами жизни; это теперь я могу отказывать смерти в праве на существование, поскольку, пока на свете мы, она ещё не с нами, когда же пришла она, то нас на свете нет, нет сознания, чтобы осознать факт смерти; но детскому уму, не тронутому рассудительностью Платона и смирением философов позднего стоицизма, смерть казалась реальным, полностью материальным, вечно идущим по пятам злобным монстром, мечтающим тебя сожрать. Мои ночные часы состояли из борьбы с человеческой природой, которую я безнадёжно проигрывал. Намеренно не смыкая глаз, лежал я в тёмной комнате, изредка освещаемой фарами хлюпающих по улицам машин, истерически мял мокрые простынь и одеяло, прислушивался к шершавому постукиванию механизма будильника и внимательно следил за устрашающей игрой теней на потолке. Я терпел из последних сил, но усталость и нервное истощение были неумолимы: вновь и вновь они швыряли меня к сдвоенным роговым воротам, ведущим в безрадостное царство сновидений.
Брошенный на задворках человеческого общества, настоящий социальный нуль, бесполезный людям, которые, впрочем, никогда обо мне не заботились, я стал проводить свободное время с бездомными собаками. Отверженные, забытые, не знавшие, как и я, человеческого участия, они, как и я, желали тепла и любви. В зябком предрассветном сумраке, покинув равнодушный комфорт постели, я гулял съежившись по молчаливым дворам спящих домов. В карманах серой полиэстеровой куртки болтались скромные остатки ужина и завтрака, завёрнутые в газетную бумагу. Собаки быстро привыкли к моей компании; заслышав издалека шаркающую походку, они рысцой подбегали ко мне, весело помахивая облезшими хвостами; их прохладные носы согревали сердце, а мокрые языки иссушали обильные слезы уныния. Я мечтал подобрать пса и принести его домой, обретя в лице этого милого комочка шерсти верного наперсника. Мама была против.
– Зачем тебе псина? – возражала она. – От неё сплошная грязь и вонь. Она загадит всю квартиру. Будь она ещё породистой собакой, можно понять, но там одни уродливые дворняжки.
– Мне жаль их. Им холодно и голодно на улице. Они никому не нужны.
– Нашёлся сердобольный! Всем помочь хочешь? Всем не поможешь, – отвечала мать и уходила в другую комнату.
Я же годами не мог понять, отчего, раз уж нельзя помочь всем, не стоит помогать никому?..
У меня появился любимец – игреневый щенок Томас с чёрно-белой мордашкой, длинными треугольными ушками, сложенными конвертом, толстыми лапками, выдававшими принадлежность к знатному пёсьему роду, и грустными карими глазами, над которыми изгибались охряные брови. Утром он встречал меня перед подъездом, обнимая за ногу, и провожал до школы, виляя из стороны в сторону, словно рисуя траекторией своего движения знак бесконечности; вечером мы бегали по округе, на пару вывалив языки, улыбаясь во весь рот. Однажды мне удалось провести Томаса домой незамеченным; неделю я прятал его в своей комнате, держа дверь закрытой, и выносил на прогулку, укрывая под курткой; он спал на кровати, калачиком свернувшись в ногах. Я был счастлив. Его умилительная непоседливость ветром перемен проносилась по моей душе, забирая обиды, разочарования и боль; от него, как от солнца на детском рисунке, расходились лучи радости и спокойствия, озарявшие мрачно-тоскливую белёсость будней; прижимаясь к его бархатной шерсти, я представлял, что лежу в центре бескрайнего луга, одурманенный пьянящим ароматом мириад всевозможных цветов. К сожалению, идиллия не может длиться вечно. Судьба предлагает нам малюсенькую ложечку сладчайшего мёда лишь для того, чтобы мы острее ощущали нестерпимую горечь дёгтя, в бочке которого барахтается наша жизнь. Мать поймала нас ночью, когда Томас, испугавшись кошмара, затявкал во сне. Она ворвалась в комнату со стремительностью маститого бойца спецназа; резким движением руки она сбросила щенка на пол и принялась за меня; сняв тапочку, она лупила меня по лицу; во рту смешались кровь из разбитой губы, проглоченные слёзы и шарики склубившейся пыли.
– Убирайся, – прорычала мать, указывая на входную дверь после завершения экзекуции. – Вали, тварь! И не забудь эту блохастую сволочь!
В трусах и майке, не успев ничего надеть, я схватил дрожавшего щенка, забившегося в угол комнаты, и вылетел на лестничную площадку. Остаток ночи я просидел в закутке под лестницей на первом этаже, прижавшись спиной к бетонной стене. Щенок, оправившись от испуга, беззаботно спал у меня на животе. Был конец декабря. Через поколоченные окна подъезда тянул морозный воздух. Меня пробирал озноб, душил кашель, каждый вздох сопровождался болью в груди, а раскрасневшиеся глаза заволакивала пелена. Стараясь как можно крепче держать Томаса, я потерял сознание.
Как говорили, скорую вызвали соседи, вставшие утром на работу. Когда к матери пришёл участковый, она разрыдалась и рассказала, что я, неблагодарный и избалованный, сбежал из дому, потому что она, горемычная, отказалась купить мне конструктор «Лего»; синяки у меня на лице мать объяснила тем, что я ударился о перила, когда она, упав на колени, старалась меня удержать от побега. Меня не удивило, что участковый и соседи приняли её сторону – сторону, по их словам, бедной женщины, вынужденной почти в одиночку справляться с таким грубым, непослушным и злым ребёнком.
Новый год я отмечал в больнице. По странному стечению обстоятельств в шестиместной палате, куда меня перевели из реанимации, я был единственным пациентом. Мне прописали строгий постельный режим. Часами я смотрел в немытое окно на заснеженную тропинку и думал о Томасе. Где он теперь? Вдруг, пока меня пичкали супом и антибиотиками, борьба за объедки сокрушила его? Или свершилась роковая судьба, и, ласковый, добрый, он погиб под колёсами грузовика? Кто мог защитить его?..
Домой меня отпустили под Рождество. Грузные лилейные звёзды девственного снега вальсировали по воздуху, студёными пушинками опускаясь на бескровные щёки, отвыкшие от ёжистых поцелуев зимы. Вдоль обочины, будто на плаце, выстраивались стройные когорты синусоидных сугробов, готовых к непродолжительной службе на благо бессмертной природной гармонии. Напротив подъезда, прислонившись к невысокому заборчику, предназначенному для ограждения цветников, сидел подросший Томас и слизывал с блестящего чёрного носа упавшие снежинки. Увидев меня, ковылявшего по улице, Томас заскулил, радостно повизгивая, запрыгал, вращаясь, как планета вокруг своей оси, забарабанил мощными лапами по снежному ковру, застелившему тротуар, и рванул в мою сторону, вертя заюлившимся хвостом.
– Прочь, тварь! – завопила мать, забравшая меня из больницы и в ту минуту шедшая рядом. – Не вздумай подходить! Убирайся, блохастый урод!
Томас вздрогнул и остановился, недоуменно крутя умной головой. Мать больно схватила меня за руку и потащила домой. Как тот трусливый ребёнок, не вступившийся за бульдога по кличке Карфейс, я ничего не сказал, никак не возмутился, ничем не показал своего возмущения, до постыдности послушно проследовав в квартиру.
Через три дня, на протяжении которых меня не выпускали из дома ни под каким предлогом, закончились зимние каникулы. Потеплело. Преждевременная оттепель, вредная и надоедливая падчерица вечно сомневающейся московской погоды, привела в гости противных друзей – месиво из грязи и подтаявшего снега, лужи с колючей водой, доходившей до щиколоток, и скрывавшийся под ними, как замаскированный снайпер, тонкий слой прескользкого льда. Я надеялся встретить Томаса на привычном месте, но рядом с домом его не было. Неужели он обиделся на меня, посчитав предателем, отвергшим его щенячью преданность? Сейчас, когда я в приступе ужаса воскрешаю в памяти чудовищные события того дня, мне хочется, чтобы этот вопрос, при первом появлении вызывавший по всему телу мурашки, получил миллион утвердительных ответов. Пожалуйста, боже, поверни время вспять и наставь Томаса на путь истинный – на путь, который никогда не пересечётся с моим! Пожалуйста!..
Томас ждал меня недалеко от школы. Его звонкий, колокольчиковый лай, как молния, прорезал тучи печали. Малыш, прелестный малыш…
– Козёл, – кричали в мою сторону одноклассники, – ты чего здесь забыл? Нам сказали, что ты свалился с воспалением лёгких. Мы надеялись, что ты сдохнешь. Как было бы здорово больше никогда не видеть твою кислую харю и эту шавку, которая за тобой по пятам ходит!
Искавшие возможность быть задетыми, чтобы задеть в ответ, остадившиеся, как племя шимпанзе, идущее на битву с соседями, ожесточённые, как банда дельфинов, ищущих лёгких коитальных утех, они гоготали, будто вернувшись к родному языку своих далёких предков. Я не хотел смотреть на них и гладил Томаса, завалившегося на спину и подставлявшего мне, блаженно согнув передние лапы, светлый животик.
– Вы только гляньте, – они прекратили хохотать и грозно двинулись в мою сторону, – не обращает на нас внимания, словно мы пустое место.
– Ага, чешет свою уродливую псину!
– Думает, что она лучше нас.
– Забыл, как мы тебя отмутузили? Хочешь повторить?
– Давай-ка прогуляемся на наше любимое место…
– Не сомневаюсь, что ему понравилось…
– И собаку надо взять…
Они надвигались толпой, как тени из кошмаров. Их грубые, металлические, режущие слух дисканты, в которых обертонировал звериный вой, слились в пугающую какофонию ненависти. Мои руки и ноги обмякли. Четверо подняли меня и потащили за школу, как бревно; один поймал Томаса, не осознававшего, что происходит. От страха у меня не было сил вырываться. Я кричал: «Помогите!», «Не надо!», «Остановитесь!» – но меня не принимали всерьёз; родители, отводившие своих детей в школу, агасферически отворачивались, будто ничего не происходило, будто всё это представлялось им забавной, безобидной игрой невинных малышей. Меня бросили к контейнерам с мусором, перевернули на живот; сверху мне на поясницу сел один из них, пухлый, щекастый, толстозадый, и, держа за волосы, заставлял смотреть. Главный – по-моему, его звали Дима – достал из бокового отделения рюкзака нож-бабочку.
– Получай удовольствие, – процедил он сквозь аккуратные, ровные зубы, поражавшие голливудской ухоженностью.
Его кабинет.
Дверь заперта.
Мне нужно увидеть его в последний раз. Попрощаться. Ломать дверь? На грохот могут прибежать соседи. Может, полицию уже вызвали…
Не знаю.
Надо торопиться.
В гостиной – сползающие к полу червяки разодранных обоев. На тумбочке – рыдающий граммофон. Антикварный овальный стол из махагона. Свежие царапины от ногтей на лакированной поверхности. На столе – упитанная картонная папка. Внутри – испещрённые неровным, шатающимся почерком листы бумаги.
Знобит. Вялое пиликанье сирен. Или показалось? Не знаю. Никакой уверенности.
Дрожащими руками я загрёб папку. Поправил резинки. И в полузабытьи ринулся наутёк из этого дома.
Записки Галевина
Чтобы судить о человеке, надо по крайней мере проникнуть в тайники его мыслей, страданий, волнений. Быть может, я льщу себе и придаю судьбоносным событиям прошедших лет больше значения, чем в них есть на самом деле, когда надеюсь, что моя печальная жизнь способна заинтересовать людей посторонних, но во мне не осталось сил молчать, прикрывая холодным спокойствием лица разрушительные, безжалостные тайфуны отчаяния, бушующие в моей душе. Мне иногда кажется, что всё случившееся – жуткий сон, болезненный, как горячительный бред алкоголика, и бесконечный, как мрак глубокого космоса. Эта абсурдная, пустая, ничем не подкреплённая, но такая сладкая и утешительная надежда, пожалуй, единственная причина, почему я до сей поры жив. Вечерами я тихонько, будто под сурдинку, шепчу бессвязные слова молитвы, уповая на то, что какая-нибудь великая сила Вселенной, какое-нибудь благодушное божество смилостивятся над потерявшимся, опустившимся, раскаивающимся грешником и помогут мне проснуться…
Свадьба моих родителей была одним из тех событий, которое, представляясь поначалу светлым и счастливым, затем становится первым шагом к кошмару длительностью в жизнь. Знакомство на обыденной студенческой вечеринке, где дешёвое, кислое пиво одурманивает разум эффективнее морфия, переросло в любовные игрища на узкой, скрипучей кровати в общежитии. Глупцы, они вряд ли с полной ясностью понимали, к чему могут привести их пылкие признания и неуклюжие объятия под дырявым шерстяным одеялом; опьянев от радостей, свойственных безрассудной молодости, они позабыли об осторожности и в один трагичный день оказались перед кабинетом гинеколога районной поликлиники. Немолодая женщина в белом халате, привыкшая за долгие годы наблюдений к дрожащим рукам юных любовников, сверкающих бледностью смущённых лиц, думается мне, с хорошо укрытой от взгляда печалью смотрела на моих испуганных родителей. Знай они, кем вырастит их чадо, какие омерзительные деяния сотворит, знай они, сколько боли причинит ни в чём не повинным людям, сколько злых поступков будет отягощать его склонную к компромиссам, податливую как тесто совесть, знай они, как много крови прольётся по его вине, каким монстром окажется плод их простосердечной любви, – мне бы никогда не видеть света.
Поддавшись настойчивым убеждениям близких и дальних родственников, живущих, как непростительно часто бывает, традициями и привычками, последовав советам сиюминутных друзей, попав под обаяние флёра лёгкой влюблённости и романтики, к тому моменту изрядно поизносившемуся, мои родители влезли в долги, чтобы организовать сатрапическое торжество на зависть остальным. Изысканное платье цвета магнолии, вечный символ чистоты и невинности, с трудом прикрывавшее отчётливо выделявшийся живот, вплетённый в русые волосы венок из флердоранжа, чья непорочная белизна вступала в резкий контраст с маджентовыми мешками под глазами, закономерным следствием изматывающей бессонницы; арендованный чёрный смокинг с малиновым шёлковым камербандом, вызывавший трепет восхищения и противоречивые желания – прикоснуться к дивному творению портных, нежному, как пенная бахрома океанской волны, или, исполнившись боязни, не осквернять филозелевое чудо следами вымазанных в майонезе пальцев; многочисленные гости в изъеденных молью нарядах, вытащенных из затхлого небытия древних шкафов, сваливавшие в кучу, будто подготавливая площадь для грандиозного аутодафе, коробки с безвкусными наборами постельного белья и однообразными сервизами, облизывавшие губы и потиравшие носы в предвкушении дармовых яств и, наконец, дорвавшиеся до праздничных блюд, с нетерпением ожидая священного момента, когда, обессиленные от бурных возлияний, с невидящим, осоловелым взором, в испачканных подливкой и икрой костюмах, они смогут забыться в долгом, благословенном сне, уткнувшись лицом в недоеденный салат, – другими словами, свадьба моих родителей безоговорочно следовала канонам истинного пира сумасбродства во время подкрадывавшейся из-за угла чумы. Похмельное пробуждение, жаркое, удушливое, сухое, как ивово-коричневые пространства Атакамы, принесло с собой не только неконтролируемую жажду и головную боль, каждый луч солнца превращавшую в заточенный кинжал хладнокровного ассасина из келий таинственного Аламута, но и утрату любых иллюзий, отрадно пестованных накануне сердцами молодожёнов. Мать смотрела на скривившийся, помутневший лик отца, некогда представлявшегося ей благочестивым ангелом, а отец, вливавший в свое полыхающее, словно торфяной пожар, горло тёплую минералку, не мог отвести взгляд от алой сыпи засосов, обрамлявших тонкую бледную шею его ненаглядной принцессы; они, наблюдая за разбредающимися на полусогнутых ногах участниками пиршества, чувствовали бурлящим нутром, как развеиваются мечты о счастливой, благополучной жизни, как добрая сказка для весёлых детишек превращается в лишённый снисхождения и жалости натуралистический роман, как воздвигается с неумолимой твёрдостью могильного камня рукотворный памятник нищеты, лишений и разочарований.
Мои первые воспоминания относятся к тем годам, когда между родителями утвердились прочные отношения взаимной вражды. Отец после аспирантуры остался на родном химическом факультете; высокий, худощавый, всегда с растрёпанными светло-бурыми волосами, достававшими до узких мальчишеских плеч, с тусклыми карими глазами, волей природы переданными мне, он устроился лаборантом, через пару лет получил должность преподавателя и медленно вскарабкивался по карьерной лестнице, читая лекции первокурсникам и переписывая многострадальную кандидатскую диссертацию, продвигавшуюся с невиданным трудом; дома он появлялся редко, в основном поздней ночью, выбирая днём корпеть на работе, а вечера проводить в компании сослуживцев и университетских друзей; иногда, ввалившись домой пьяным, как некрасовский крестьянин, отец садился ко мне на кровать, костлявой рукой толкал меня в плечо, потом, отвернувшись и закрыв лицо ладонями, начинал плакать, едва слышно поскуливая, как испуганный пёс, и, уходя нетвёрдым, шумным шагом, клал на прикроватную тумбочку подтаявшую плитку молочного шоколада. Мать всю жизнь ассоциировалась у меня с тягучим, въевшимся в кожу запахом лекарств; от яркого костра девичьих надежд на счастливое супружество, не омрачённое невзгодами, засорившимися унитазами и прорванными батареями, осталось несколько крошечных угольков непрекращающейся грусти, от которых тянулась вверх узкая, как нить паутинки, полоска дыма, давно переставшая согревать разбитое сердце; без разбора, наплевав на предписания врачей, мать пичкала себя всеми успокоительными, какие могла отыскать: в небольшой прямоугольной деревянной шкатулке, отороченной разноцветным бархатом, лежали флаконы с настойками валерьяны, пиона, пустырника, высушенная трава страстоцвета и зверобоя, из которых она заваривала чай, чтобы запить таблетки антидепрессантов, добытых далеко не всегда законным способом; из квартиры она старалась не выходить, предпочитая душистой хвойности леса густой сигаретный дым, аннексировавший маленькую кухню, полевым цветам, восторженно приветствовавшим солнце, – пепел, падавший на старый сатиновый халат, который она, кажется, никогда не стирала, а белоснежным барашкам облаков, плывшим по голубому небосклону, – накрахмаленные, отбеленные рубашки дикторов новостей на голубом экране; её глаза, прежде, как рассказывали мне, яркие, искрившиеся тёплым блеском ляпис-лазури, стали серыми и холодными; в редчайшие моменты просветления, когда порывы безудержной деятельности захватывали её, мать садилась за зингеровскую швейную машинку, полученную в наследство от бабушки, и шила простыни и шторы, мастеровито управляясь с громоздким маховым колесом, словно опытный рулевой с массивным штурвалом бригантины; в те часы на потрескавшихся губах матери даже возникала улыбка.
Нужно ли говорить, что жили мы бедно, питались скудно, ходили в видавшей виды одежде, больше напоминая отчаявшихся жерминальских шахтёров, нежели жителей крупного мегаполиса начала двадцать первого века? За неделю до моего первого звонка, когда тёплое августовское солнце опускалось за крыши высотных блочных домов, отец принёс мне тёмно-синий костюм-двойку; с благоговейным трепетом, разложив подарок на кровати, я поглаживал хлопковый пиджак, воображая себя почтенным английским джентльменом, опиравшимся на трость с золотым набалдашником и снимавшим котелок перед проходившими мимо леди в гродетуровых платьях цвета потупленных глаз. По нескольку раз в день я залезал в дээспэшный шкаф с шатающимися ножками, тревожно оглядывая мое сокровище. Мысль о том, что костюм могут украсть, что он может свалиться с вешалки и порваться, что он может растаять, как прекрасное видение, придуманное гибнущим мозгом, приводила меня в состояние паники; лоб покрывался испариной, руки тряслись, как у несчастного на электрическом стуле, сердце, замирая на короткий отрезок времени, вновь пускалось в бешеный пляс, желая пробить дыру у меня в груди и убежать через неё в дальние страны; костюм был для меня любимой мягкой игрушкой, которую ребёнок с упоением подкладывает под щёку во время сна, голубым цветком, вышедшим из царства Морфея, обретшей плоть и не желавшей исчезать Сильфидой, блестящим Граалем, хранившимся в глубинах моего обветшалого Монсальвата. В приподнятом до горных вершин настроении, облачившись в желанные обновки, с элегантностью прирождённого аристократа я обходил позеленевшие лужи, образовавшиеся в дорожных выбоинах. Безмятежный, как буддистский монах в период Вассы, и счастливый, как удачливый влюблённый, после долгих терзаний сорвавший поцелуй с обожаемых губ, наперекор здравому смыслу я наслаждался промозглым утром первого дня осени, громкими выхлопами летевших по дорогам автомобилей, мерзостным амбре мусоровозов, по-медвежьему вальяжно переваливавшихся во дворах домов, мочившимися возле подъездов алкоголиками и базарной крикливостью толпы, собравшейся перед бело-голубыми стенами школы. Пошлая, обыденная действительность Беляева виделась мне волшебной страной фей и единорогов, порождённой богатой фантазией доброго сказочника. Не знаю, в том ли дело, что безудержной радостью светилось мое лицо, а на щеках аккуратным розаном алел румянец, или в том, что мои изношенные ботинки и целлофановый пакет, заменявший мне портфель, непроизвольно вызывали жалость у учителей, руководивших процессией первоклашек, однако меня поставили во главе торжественной колонны рядом с девочкой по имени Нелли. До последнего звука, умирающего ночью в глухом лесу, она соответствовала своему имени. Нелли была свежестью дневного бриза, подувшего на безжизненный берег моря суеты; в распущенных вороных волосах и черных глазах юной Тоски сияла томительная беспредельность ночи; прикосновение детской ручки, протянутой с чистосердечной улыбкой, пробудили неизведанные чувства и переживания. Я был смел, но в душе, а не в обхождении; не имея представления о том, как вести себя, как прятать переполнявшие меня эмоции, как не выглядеть юродивым шутом перед ацтекской богиней, сошедшей с картин Хесуса Эльгеры, я дрожал, словно берёзовый листок на сильном ветру. Мои ноги подкашивались. Я чувствовал себя жалким осквернителем священных вод океана, из которых вышла, поражая нетронутой красотой бытия, эта маленькая Афродита. Весь день – торжественная линейка, наставления директора, экскурсия по школе и первые уроки – казался миражом, готовым в любой миг раствориться. Всё было сном, трудно различимым абрисом в тумане неизвестности, гипнотической дымкой индейских костров…
Отношения с одноклассниками у меня не сложились. Дети сторонились меня как прокажённого, избегали смотреть в мою сторону, как если бы я был Джозефом Мерриком своего времени. Вместе с тем во внешности моей нельзя было отыскать черт необыкновенных или пугающих; на загорелой коже отсутствовали гниющие язвы и тошнотворные наросты, голова, покрытая каштановыми волосами, не выделялась пантагрюэлевскими размерами, все конечности были на месте и не производили впечатление деформированных. Свой гардероб, незатейливый, скромный, ограниченный, я старался содержать в чистоте, не позволяя себе приходить в школу в дурно пахнущей одежде. Месяцами я искал сверстника, не испытывавшего ко мне необъяснимого отвращения, и надеялся понять, за какие прегрешения меня подвергли этому жесткому остракизму. Усилия были тщетны. Беспрестанно наталкиваясь на преграды в своём стремлении излиться, душа моя, наконец, замкнулась в себе. Откровенный и непосредственный, я поневоле стал холодным и скрытным; вынужденное отшельничество лишило меня всякой веры в себя; я был робок и неловок, мне казалось, что во мне нет ни малейшей привлекательности, я был сам себе противен, считал себя уродом, стыдился своего взгляда. Я думал, что проклят небесами, которые прогневал в прошлой жизни; смотрясь в зеркало, я пытался различить на своем челе Каинову печать, утаённую от меня, но очевидную для всех остальных; я был Вуличем, окружённым десятками и сотнями Печориных. Чтобы чем-то занять себя на переменах и скучных уроках, отвлечься от всепожирающего чувства отчуждённости, я начал писать любовные письма к Нелли. В моих безыскусных посланиях читались детская непосредственность и подсознательное влечение к эстетическому великолепию. Завершив письмо, я бесщадно рвал его на мелкие части, складывал обрывки между страниц учебника и по дороге домой выбрасывал в мусорные ящики. Никто не должен был их прочитать. Я предпринимал все меры предосторожности, дабы мои сокровенные признания не попались кому-либо на глаза, но однажды допустил непростительную ошибку. Меня вызвали к доске, и в спешке я не успел убрать письмо, оставив его лежать на парте; когда я вернулся, письма уже не было. В ту секунду время остановилось. Мои зубы бились друг о друга так, как будто хотели искрошиться в порошок. Я боялся вздохнуть, выдохнуть, пошевелиться. Стыд сковал мои члены и тащил на плаху. На перемене меня казнили. Ребята, чьих имён я не могу вспомнить, закрыли дверь, попросили всех остаться и, демонстрируя завидный актёрский талант, во всеуслышание огласили рыдания моего доверчивого сердца. Смеялись безликие дети, учительница, кварцевые часы, висевшие над входом в класс, кактусы в горшках, стоявшие на подоконнике, пожелтевший кружевной тюль, ручки, карандаши, линейки, специально выбравшиеся из пеналов, и, разумеется, смеялась Нелли. Её задорный, звонкий хохот оглушал меня. Я не смел поднять глаз. После уроков мальчишки поймали меня за школой; я не видел, как они подошли и сколько их было; меня повалили в грязный снег; били в голову, по спине, в пах, душили брючным ремнем; они кричали, чтобы я держался подальше от Нелли, не смотрел на неё, не думал о ней; Нелли стояла в стороне, улыбалась своей беззлобной, прямодушной улыбкой, которая очаровала меня в первую нашу встречу; я сжался в комок, закрыл глаза и беззвучно плакал, осознавая, что здесь, на земле, ничто не осуществляется полностью, кроме несчастья.
В скором времени меня начали мучить ночные кошмары, избавиться от которых не удается до сих пор. Мне снилось, что я стою на пустыре, за каким-то полуразрушенным складом; фисташковое солнце, скупое и бесчувственное, озаряет раскромсанный, побелевший асфальт и мелкие клочья лоснящейся травы; тревога нависает кронами возникающих из ниоткуда деревьев; в мою сторону, обезличенные, бестелесные, пустые и страшные, движутся тени, полчища, легионы теней, они тянут руки, длинные и тонкие, как прутья; я пячусь, отворачиваюсь от них и бегу, хочу убежать, но бетон превращается в тягучий, вязкий песок; он засасывает меня, нет сил двинуть ногой, тени, деревья, солнце падают с посеревшего неба, и я задыхаюсь под тяжестью их полой ненависти. В другую ночь я мог видеть Армагеддон; большая часть мира уничтожена ядерным и химическим оружием; оставшиеся в живых люди мутировали в гигантских ящериц – новых динозавров, созданных безумным гением неизвестного апологета генной инженерии; сквозь густые заросли амазонских джунглей – откуда они появились? – я пробираюсь к своему дому, ищу маму, отца; зданий нет, никаких людей, путь усеян вывернутыми наизнанку трупами щенков, я натыкаюсь на широкую поляну; слышится лёгкий шорох, что-то опутывает мои ноги, с ужасом смотрю вниз, это гибкий, склизкий и холодный хвост ящерицы; из кустов ухмыляется раскрытая крокодилья пасть, на ландыши низвергаются хляби слюней, от которых несёт гнилым мясом; перламутровые угли глаз переливаются красно-фиолетовым огнём; ящерица говорит вкрадчивым голосом; слов не разобрать; нет, минутку, я различаю, понимаю её медоточивое шипение: «С возвращением, сынок, ты дома…». Сновидения переносили меня в гигантский дом в тысячу этажей, устроенный на манер бессистемного лабиринта; миллиарды лет я блуждал по замысловатым коридорам и нескончаемым лестницам, не отдавая себе отчёта в том, что должен делать; я мечтал выбраться из этого царства бликующих люминесцентных ламп, дырявых отопительных труб, из которых валили струи пара, мёртвых человеческих тел, лежащих вдоль азбантиевых стен, но не знал, где найти выход; моим единственным компаньоном был воробушек, прилетавший раз в сотню лет; наши встречи длились минуту, из хлебных крошек воробушек составлял слово «вечность» и улетал, бросая меня одного. Часто во время дрёмы я делался приглашённым врачом, проводившим независимую экспертизу психиатрической лечебницы; всякий раз мне попадался пациент, который был совершенно здоров, в больнице его удерживали против воли, не имея к тому ни малейших законных оснований; почему-то спасти я его мог, только устроив побег; нам удавалось выбраться из палаты, незамеченными мы добирались до высокой каменной стены, служившей забором, и уже перелезали, как внезапно я попадал в западню – в тесную коробку из плотного, жёсткого материала, с вырезанным окошком для глаз, откуда лился ласковый солнечный свет; затем я падал, но как-то неспешно, словно в замедленной съёмке; лучи солнца, пробивавшиеся через окошко, более не касались меня, они светили на недостижимой высоте, а в коробке не утихало эхо множества голосов: «Ты наш…». Я просыпался с криком, в ледяном поту, давясь жгучими слезами, стараясь унять сердце, мчавшееся ураганным карьером, как спятившая лошадь. Ложась спать, я боялся не проснуться и навсегда остаться заточенным в мире кошмаров. Сон ассоциировался у меня со смертью.
– Пожалуйста, не надо, – жалобно просил я маму, когда глубокой ночью, завидев свет в комнате, она приходила его выключить.
– Это что за фантазии такие? – спрашивала она с раздражением. – Прекрати-ка электроэнергию расходовать, она, к твоему сведению, не бесплатная.
– Но мне страшно, мама, пожалуйста, – я умолял, мертвой хваткой вцепившись в подушку.
– Чего ты боишься?
– Что темнота поглотит меня, а с ней придёт смерть. Я не хочу умирать.
– Ой, да кому ты нужен, – вскрикивала она раздражённо и, щёлкая выключателем, говорила: – Спи давай. Шизик, ей-богу.
Это теперь, по прошествии полутора десятков лет, мысли о собственной смерти вызывают у меня разве что лёгкий смешок: ужасы смерти не властны над душой, свыкшейся с ужасами жизни; это теперь я могу отказывать смерти в праве на существование, поскольку, пока на свете мы, она ещё не с нами, когда же пришла она, то нас на свете нет, нет сознания, чтобы осознать факт смерти; но детскому уму, не тронутому рассудительностью Платона и смирением философов позднего стоицизма, смерть казалась реальным, полностью материальным, вечно идущим по пятам злобным монстром, мечтающим тебя сожрать. Мои ночные часы состояли из борьбы с человеческой природой, которую я безнадёжно проигрывал. Намеренно не смыкая глаз, лежал я в тёмной комнате, изредка освещаемой фарами хлюпающих по улицам машин, истерически мял мокрые простынь и одеяло, прислушивался к шершавому постукиванию механизма будильника и внимательно следил за устрашающей игрой теней на потолке. Я терпел из последних сил, но усталость и нервное истощение были неумолимы: вновь и вновь они швыряли меня к сдвоенным роговым воротам, ведущим в безрадостное царство сновидений.
Брошенный на задворках человеческого общества, настоящий социальный нуль, бесполезный людям, которые, впрочем, никогда обо мне не заботились, я стал проводить свободное время с бездомными собаками. Отверженные, забытые, не знавшие, как и я, человеческого участия, они, как и я, желали тепла и любви. В зябком предрассветном сумраке, покинув равнодушный комфорт постели, я гулял съежившись по молчаливым дворам спящих домов. В карманах серой полиэстеровой куртки болтались скромные остатки ужина и завтрака, завёрнутые в газетную бумагу. Собаки быстро привыкли к моей компании; заслышав издалека шаркающую походку, они рысцой подбегали ко мне, весело помахивая облезшими хвостами; их прохладные носы согревали сердце, а мокрые языки иссушали обильные слезы уныния. Я мечтал подобрать пса и принести его домой, обретя в лице этого милого комочка шерсти верного наперсника. Мама была против.
– Зачем тебе псина? – возражала она. – От неё сплошная грязь и вонь. Она загадит всю квартиру. Будь она ещё породистой собакой, можно понять, но там одни уродливые дворняжки.
– Мне жаль их. Им холодно и голодно на улице. Они никому не нужны.
– Нашёлся сердобольный! Всем помочь хочешь? Всем не поможешь, – отвечала мать и уходила в другую комнату.
Я же годами не мог понять, отчего, раз уж нельзя помочь всем, не стоит помогать никому?..
У меня появился любимец – игреневый щенок Томас с чёрно-белой мордашкой, длинными треугольными ушками, сложенными конвертом, толстыми лапками, выдававшими принадлежность к знатному пёсьему роду, и грустными карими глазами, над которыми изгибались охряные брови. Утром он встречал меня перед подъездом, обнимая за ногу, и провожал до школы, виляя из стороны в сторону, словно рисуя траекторией своего движения знак бесконечности; вечером мы бегали по округе, на пару вывалив языки, улыбаясь во весь рот. Однажды мне удалось провести Томаса домой незамеченным; неделю я прятал его в своей комнате, держа дверь закрытой, и выносил на прогулку, укрывая под курткой; он спал на кровати, калачиком свернувшись в ногах. Я был счастлив. Его умилительная непоседливость ветром перемен проносилась по моей душе, забирая обиды, разочарования и боль; от него, как от солнца на детском рисунке, расходились лучи радости и спокойствия, озарявшие мрачно-тоскливую белёсость будней; прижимаясь к его бархатной шерсти, я представлял, что лежу в центре бескрайнего луга, одурманенный пьянящим ароматом мириад всевозможных цветов. К сожалению, идиллия не может длиться вечно. Судьба предлагает нам малюсенькую ложечку сладчайшего мёда лишь для того, чтобы мы острее ощущали нестерпимую горечь дёгтя, в бочке которого барахтается наша жизнь. Мать поймала нас ночью, когда Томас, испугавшись кошмара, затявкал во сне. Она ворвалась в комнату со стремительностью маститого бойца спецназа; резким движением руки она сбросила щенка на пол и принялась за меня; сняв тапочку, она лупила меня по лицу; во рту смешались кровь из разбитой губы, проглоченные слёзы и шарики склубившейся пыли.
– Убирайся, – прорычала мать, указывая на входную дверь после завершения экзекуции. – Вали, тварь! И не забудь эту блохастую сволочь!
В трусах и майке, не успев ничего надеть, я схватил дрожавшего щенка, забившегося в угол комнаты, и вылетел на лестничную площадку. Остаток ночи я просидел в закутке под лестницей на первом этаже, прижавшись спиной к бетонной стене. Щенок, оправившись от испуга, беззаботно спал у меня на животе. Был конец декабря. Через поколоченные окна подъезда тянул морозный воздух. Меня пробирал озноб, душил кашель, каждый вздох сопровождался болью в груди, а раскрасневшиеся глаза заволакивала пелена. Стараясь как можно крепче держать Томаса, я потерял сознание.
Как говорили, скорую вызвали соседи, вставшие утром на работу. Когда к матери пришёл участковый, она разрыдалась и рассказала, что я, неблагодарный и избалованный, сбежал из дому, потому что она, горемычная, отказалась купить мне конструктор «Лего»; синяки у меня на лице мать объяснила тем, что я ударился о перила, когда она, упав на колени, старалась меня удержать от побега. Меня не удивило, что участковый и соседи приняли её сторону – сторону, по их словам, бедной женщины, вынужденной почти в одиночку справляться с таким грубым, непослушным и злым ребёнком.
Новый год я отмечал в больнице. По странному стечению обстоятельств в шестиместной палате, куда меня перевели из реанимации, я был единственным пациентом. Мне прописали строгий постельный режим. Часами я смотрел в немытое окно на заснеженную тропинку и думал о Томасе. Где он теперь? Вдруг, пока меня пичкали супом и антибиотиками, борьба за объедки сокрушила его? Или свершилась роковая судьба, и, ласковый, добрый, он погиб под колёсами грузовика? Кто мог защитить его?..
Домой меня отпустили под Рождество. Грузные лилейные звёзды девственного снега вальсировали по воздуху, студёными пушинками опускаясь на бескровные щёки, отвыкшие от ёжистых поцелуев зимы. Вдоль обочины, будто на плаце, выстраивались стройные когорты синусоидных сугробов, готовых к непродолжительной службе на благо бессмертной природной гармонии. Напротив подъезда, прислонившись к невысокому заборчику, предназначенному для ограждения цветников, сидел подросший Томас и слизывал с блестящего чёрного носа упавшие снежинки. Увидев меня, ковылявшего по улице, Томас заскулил, радостно повизгивая, запрыгал, вращаясь, как планета вокруг своей оси, забарабанил мощными лапами по снежному ковру, застелившему тротуар, и рванул в мою сторону, вертя заюлившимся хвостом.
– Прочь, тварь! – завопила мать, забравшая меня из больницы и в ту минуту шедшая рядом. – Не вздумай подходить! Убирайся, блохастый урод!
Томас вздрогнул и остановился, недоуменно крутя умной головой. Мать больно схватила меня за руку и потащила домой. Как тот трусливый ребёнок, не вступившийся за бульдога по кличке Карфейс, я ничего не сказал, никак не возмутился, ничем не показал своего возмущения, до постыдности послушно проследовав в квартиру.
Через три дня, на протяжении которых меня не выпускали из дома ни под каким предлогом, закончились зимние каникулы. Потеплело. Преждевременная оттепель, вредная и надоедливая падчерица вечно сомневающейся московской погоды, привела в гости противных друзей – месиво из грязи и подтаявшего снега, лужи с колючей водой, доходившей до щиколоток, и скрывавшийся под ними, как замаскированный снайпер, тонкий слой прескользкого льда. Я надеялся встретить Томаса на привычном месте, но рядом с домом его не было. Неужели он обиделся на меня, посчитав предателем, отвергшим его щенячью преданность? Сейчас, когда я в приступе ужаса воскрешаю в памяти чудовищные события того дня, мне хочется, чтобы этот вопрос, при первом появлении вызывавший по всему телу мурашки, получил миллион утвердительных ответов. Пожалуйста, боже, поверни время вспять и наставь Томаса на путь истинный – на путь, который никогда не пересечётся с моим! Пожалуйста!..
Томас ждал меня недалеко от школы. Его звонкий, колокольчиковый лай, как молния, прорезал тучи печали. Малыш, прелестный малыш…
– Козёл, – кричали в мою сторону одноклассники, – ты чего здесь забыл? Нам сказали, что ты свалился с воспалением лёгких. Мы надеялись, что ты сдохнешь. Как было бы здорово больше никогда не видеть твою кислую харю и эту шавку, которая за тобой по пятам ходит!
Искавшие возможность быть задетыми, чтобы задеть в ответ, остадившиеся, как племя шимпанзе, идущее на битву с соседями, ожесточённые, как банда дельфинов, ищущих лёгких коитальных утех, они гоготали, будто вернувшись к родному языку своих далёких предков. Я не хотел смотреть на них и гладил Томаса, завалившегося на спину и подставлявшего мне, блаженно согнув передние лапы, светлый животик.
– Вы только гляньте, – они прекратили хохотать и грозно двинулись в мою сторону, – не обращает на нас внимания, словно мы пустое место.
– Ага, чешет свою уродливую псину!
– Думает, что она лучше нас.
– Забыл, как мы тебя отмутузили? Хочешь повторить?
– Давай-ка прогуляемся на наше любимое место…
– Не сомневаюсь, что ему понравилось…
– И собаку надо взять…
Они надвигались толпой, как тени из кошмаров. Их грубые, металлические, режущие слух дисканты, в которых обертонировал звериный вой, слились в пугающую какофонию ненависти. Мои руки и ноги обмякли. Четверо подняли меня и потащили за школу, как бревно; один поймал Томаса, не осознававшего, что происходит. От страха у меня не было сил вырываться. Я кричал: «Помогите!», «Не надо!», «Остановитесь!» – но меня не принимали всерьёз; родители, отводившие своих детей в школу, агасферически отворачивались, будто ничего не происходило, будто всё это представлялось им забавной, безобидной игрой невинных малышей. Меня бросили к контейнерам с мусором, перевернули на живот; сверху мне на поясницу сел один из них, пухлый, щекастый, толстозадый, и, держа за волосы, заставлял смотреть. Главный – по-моему, его звали Дима – достал из бокового отделения рюкзака нож-бабочку.
– Получай удовольствие, – процедил он сквозь аккуратные, ровные зубы, поражавшие голливудской ухоженностью.